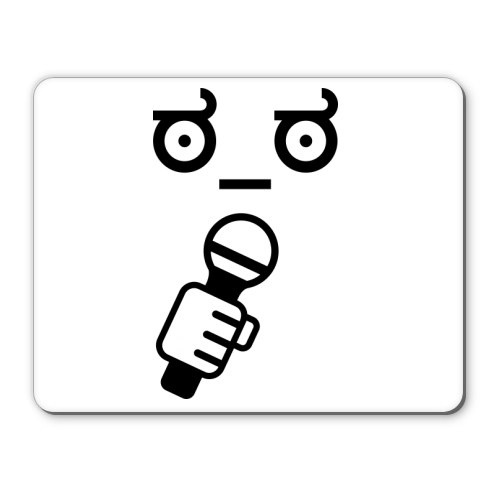Книга для многих
Часть первая
Праздник у Нины Петровны в раю.
Сегодня её творческий вечер.
Нина Петровна надевает то самое,
что хотела,
выглядит так, как хотела,
возраст тот самый, из плана.
Платье тюльпаном цвета тюльпана.
Перед большим рестораном стоит сцена.
В креслах все те, кого она так любила
как человек,
все близкие,
кого любила как автор,
поэты, начиная с Петрарки,
а может, Горация.
Когда Нина Петровна читает,
вокруг возникают вещи,
бо́льшие строк её, но связанные летуче.
И это лучше,
чем музыка фоном и видео на мониторе.
Ароматный со сцены течёт ветер
самой Истории
при чтении
самых удачных или
трудно доставшихся строк.
Все аплодируют
даже глагольным рифмам.
В бухте, которую видно со сцены,
корабль проходит над рифом,
пока эти строки звучат.
И на висках у читающей тающий холодок.
Плачет Петрарка, кажется, счастлив.
Слёзы в глазах лечащего врача.
Занавес.
Плачет Нина Петровна, сбывшись.
Завтра читает Пётр Васильевич.
Степь горяча.
Западу рукоплещет восток.
Нина Петровна идёт, возвращая предметам молодость, сквозь ветерок.
Сегодня её творческий вечер.
Нина Петровна надевает то самое,
что хотела,
выглядит так, как хотела,
возраст тот самый, из плана.
Платье тюльпаном цвета тюльпана.
Перед большим рестораном стоит сцена.
В креслах все те, кого она так любила
как человек,
все близкие,
кого любила как автор,
поэты, начиная с Петрарки,
а может, Горация.
Когда Нина Петровна читает,
вокруг возникают вещи,
бо́льшие строк её, но связанные летуче.
И это лучше,
чем музыка фоном и видео на мониторе.
Ароматный со сцены течёт ветер
самой Истории
при чтении
самых удачных или
трудно доставшихся строк.
Все аплодируют
даже глагольным рифмам.
В бухте, которую видно со сцены,
корабль проходит над рифом,
пока эти строки звучат.
И на висках у читающей тающий холодок.
Плачет Петрарка, кажется, счастлив.
Слёзы в глазах лечащего врача.
Занавес.
Плачет Нина Петровна, сбывшись.
Завтра читает Пётр Васильевич.
Степь горяча.
Западу рукоплещет восток.
Нина Петровна идёт, возвращая предметам молодость, сквозь ветерок.
Слово веган
синоним слова человек
напечатанного большими буквами
шрифтом
известным будущему
и видимо прошлому
тем измерениям
где сочувствие
слово без пафосных коннотаций
технический термин.
синоним слова человек
напечатанного большими буквами
шрифтом
известным будущему
и видимо прошлому
тем измерениям
где сочувствие
слово без пафосных коннотаций
технический термин.
Ломал хлеб и складывал на стол
для птиц.
И один из кусков стал распрямляться,
словно сопротивляясь,
возвращая форму,
мучительно растягивал поры,
словно дар может быть только широким,
и в этот момент
я буквально видел,
как сделан мир.
для птиц.
И один из кусков стал распрямляться,
словно сопротивляясь,
возвращая форму,
мучительно растягивал поры,
словно дар может быть только широким,
и в этот момент
я буквально видел,
как сделан мир.
Многократные попытки тем и хороши,
что подтверждают
существование времени.
Время само по себе — попытка,
подаренная земле.
Что-то вроде билета домой,
положенного тайком в карман джинсов
путешественника.
что подтверждают
существование времени.
Время само по себе — попытка,
подаренная земле.
Что-то вроде билета домой,
положенного тайком в карман джинсов
путешественника.
Разница между замыслом и формой -
и есть пространство создателя,
подателя,
защитника.
и есть пространство создателя,
подателя,
защитника.
Вера вроде мускулатуры, стоит её развивать.
Говорит настолько спокойный,
что кажется
прямоходящим памятником доверию.
Вокруг то ли Сочи, то ли горы Иверии,
то ли сон о важном,
под небом бронзовая листва.
Темно, но бывает полегче,
под стёклами выдыхаются стрелки,
и рёбра гудят иногда
среди длинной моей переделки.
Настолько,
что всё-таки слышу
памятники всех площадей.
Словно они для рифм.
Словно для разных людей.
Говорит настолько спокойный,
что кажется
прямоходящим памятником доверию.
Вокруг то ли Сочи, то ли горы Иверии,
то ли сон о важном,
под небом бронзовая листва.
Темно, но бывает полегче,
под стёклами выдыхаются стрелки,
и рёбра гудят иногда
среди длинной моей переделки.
Настолько,
что всё-таки слышу
памятники всех площадей.
Словно они для рифм.
Словно для разных людей.
Перескажи историю земли,
как будто результаты совещания
соседу в кабинете.
Можешь даже
шутить, пока завариваешь кофе
и смотришь на листок со списком дел.
Перескажи историю свою,
как будто это было в понедельник,
а ты стоишь во вторник, и рубашка
другая,
и, конечно же, в портфеле
другое яблоко.
И губы чуть дрожат.
как будто результаты совещания
соседу в кабинете.
Можешь даже
шутить, пока завариваешь кофе
и смотришь на листок со списком дел.
Перескажи историю свою,
как будто это было в понедельник,
а ты стоишь во вторник, и рубашка
другая,
и, конечно же, в портфеле
другое яблоко.
И губы чуть дрожат.
Посёлок Косая Гора
Мысль моя кружится, словно я сам
в детстве на велосипеде,
возле кинотеатра «Старт».
Возле бетонной лестницы
у выхода,
где мы нашли
кусок киноплёнки, десятки кадров
с женщиной за столом,
к финалу фрагмента она поднимала телефонную трубку.
Какое это было сокровище.
Сверхсигнал.
Возле забора с торчащим стеблем арматуры
и проёма, ведущего к хоккейной коробке,
над которой зимой пела взвесь снега
и пахло в раздельном загоне
для тренеров и команд.
Возле тех мест, которые вижу,
когда читаю о досократиках,
самых близких и самых белых
мыслителях.
Это даже смешно.
Вспоминать детство, кинотеатр «Старт»,
зиму,
когда читаешь о тех,
с кого начиналась европейская философия.
Только женщина
перед
красным телефоном
всё ещё в ауре тайны.
Мысль моя кружится, словно я сам
в детстве на велосипеде,
возле кинотеатра «Старт».
Возле бетонной лестницы
у выхода,
где мы нашли
кусок киноплёнки, десятки кадров
с женщиной за столом,
к финалу фрагмента она поднимала телефонную трубку.
Какое это было сокровище.
Сверхсигнал.
Возле забора с торчащим стеблем арматуры
и проёма, ведущего к хоккейной коробке,
над которой зимой пела взвесь снега
и пахло в раздельном загоне
для тренеров и команд.
Возле тех мест, которые вижу,
когда читаю о досократиках,
самых близких и самых белых
мыслителях.
Это даже смешно.
Вспоминать детство, кинотеатр «Старт»,
зиму,
когда читаешь о тех,
с кого начиналась европейская философия.
Только женщина
перед
красным телефоном
всё ещё в ауре тайны.
Помилуй. Сложнее всего найти
начальное слово,
когда направляешься к этим воспоминаниям
о будущем.
Когда за словами — предметы спасения,
стеклянная чашка и скатерть с большими, как память, сердцами.
начальное слово,
когда направляешься к этим воспоминаниям
о будущем.
Когда за словами — предметы спасения,
стеклянная чашка и скатерть с большими, как память, сердцами.
Я лежу на кровати.
Кажется, я устал.
За пределами спутник, похожий на ледяной кристалл.
В джунглях мглисто и солнечно,
волос блестит дождя,
я устал узнавать в просыпающемся себя.
Признавать его право бояться
и ничего не знать.
После битвы с усталостью.
После всякого сна.
Мы сражаемся, слышишь, сражаемся.
Сыплется дождь брони.
Перед тем как проснуться, взгляни.
Кажется, я устал.
За пределами спутник, похожий на ледяной кристалл.
В джунглях мглисто и солнечно,
волос блестит дождя,
я устал узнавать в просыпающемся себя.
Признавать его право бояться
и ничего не знать.
После битвы с усталостью.
После всякого сна.
Мы сражаемся, слышишь, сражаемся.
Сыплется дождь брони.
Перед тем как проснуться, взгляни.
Идеальное действие на фоне времени,
на фоне неидеального знания,
на фоне прежних попыток,
на фоне того, что делает длительность,
на фоне боязни фона.
Идеальное действие,
словно падение в снег,
под иллюминацией всех галактик,
на фоне дыхания,
ставшего паром,
похожим на дерево, луковку древней лампы, храмовую пристройку.
Краткая история чтения
Поначалу казалось, что всякий текст сакрален.
Точное соединение настолько абстрактных феноменов,
как слова,
внепредметных сущностей,
должно быть пронизано
высшей волей.
Это чувство усилилось, когда я начал
работать в редакциях,
и тексты не получались.
Заметки соседей по кабинету о новинках
московских издательств
или торгах на нью-йоркской бирже
представлялись соборами
логики, красоты, сверхсмыслов.
Потом,
будучи преподавателем,
я получал рефераты студентов,
эти комья цитат, инсталляции склеек,
Диснейленды буквенной тьмы.
Мне казалось, я слышу крики клавиатур
под пальцами гуннов.
Потом я смирился с тем, что слова
способны принимать разные формы,
клубиться согласием,
продолжая
быть
тем самым посланием.
Ясным в скрижалях
и тлеющим в канцелярите.
Вы говорите?
Мы говорите.
В сущности, этот экзамен сдан.
Ждите.
на фоне неидеального знания,
на фоне прежних попыток,
на фоне того, что делает длительность,
на фоне боязни фона.
Идеальное действие,
словно падение в снег,
под иллюминацией всех галактик,
на фоне дыхания,
ставшего паром,
похожим на дерево, луковку древней лампы, храмовую пристройку.
Краткая история чтения
Поначалу казалось, что всякий текст сакрален.
Точное соединение настолько абстрактных феноменов,
как слова,
внепредметных сущностей,
должно быть пронизано
высшей волей.
Это чувство усилилось, когда я начал
работать в редакциях,
и тексты не получались.
Заметки соседей по кабинету о новинках
московских издательств
или торгах на нью-йоркской бирже
представлялись соборами
логики, красоты, сверхсмыслов.
Потом,
будучи преподавателем,
я получал рефераты студентов,
эти комья цитат, инсталляции склеек,
Диснейленды буквенной тьмы.
Мне казалось, я слышу крики клавиатур
под пальцами гуннов.
Потом я смирился с тем, что слова
способны принимать разные формы,
клубиться согласием,
продолжая
быть
тем самым посланием.
Ясным в скрижалях
и тлеющим в канцелярите.
Вы говорите?
Мы говорите.
В сущности, этот экзамен сдан.
Ждите.
Пиджаки в рубчик.
Рубашки прозрачные, словно ракушки.
Брюки, подшитые идеально.
Станут прошлым,
и только вода в бумажном стакане
снова покажет небо,
застыв.
Ты будешь смотреть на равнину с полями,
которые пашет
победный луч.
Рубашки прозрачные, словно ракушки.
Брюки, подшитые идеально.
Станут прошлым,
и только вода в бумажном стакане
снова покажет небо,
застыв.
Ты будешь смотреть на равнину с полями,
которые пашет
победный луч.
И когда нас спасли, что-то тлело вдали.
Может, груда шинелей,
может, прежняя эра.
Я взглянул на живот
и сказал: — Это вот
стало мастером преодоленья барьеров.
Мы достали воды
и среди молодых
перешли, наконец-то, границу.
Там, ты знаешь, в ночи
целый мир не кричит,
но союзным конвоем сочится.
Может, груда шинелей,
может, прежняя эра.
Я взглянул на живот
и сказал: — Это вот
стало мастером преодоленья барьеров.
Мы достали воды
и среди молодых
перешли, наконец-то, границу.
Там, ты знаешь, в ночи
целый мир не кричит,
но союзным конвоем сочится.
К сожалению, философские категории для меня —
пластиковая имитация лепнины.
Я могу оценить мастерство штамповки,
красоту сочетаний.
Но постоянно слышу внутри вопрос:
как это выглядит в гипсе,
хотя бы в гипсе?
пластиковая имитация лепнины.
Я могу оценить мастерство штамповки,
красоту сочетаний.
Но постоянно слышу внутри вопрос:
как это выглядит в гипсе,
хотя бы в гипсе?
Читаю биографию Шопенгауэра.
Представляю написанное.
И не завидую, не понимаю, не чувствую.
Только жалею.
Как тот,
кому безъязыкая вера ближе
словесных за́мков
со мхом на камнях
в угасающем инее.
Предметы, согретые именем,
в комнате,
понимают меня.
Представляю написанное.
И не завидую, не понимаю, не чувствую.
Только жалею.
Как тот,
кому безъязыкая вера ближе
словесных за́мков
со мхом на камнях
в угасающем инее.
Предметы, согретые именем,
в комнате,
понимают меня.
Ещё в девяностые кто-то рассказал историю.
В Думе собрали лидеров фракций
на совещание.
В самом начале предупредили,
что речь пойдёт практически
о государственной тайне.
Попросили не разглашать.
Тогда из кресла поднялся рейтинговый политик
и сказал, что уходит.
Потому что не выдержит
и всё передаст журналистам.
Во-первых, это достойно.
Во-вторых, мне кажется, так же
многие замирают на пороге внутренней тайны,
чувствуют,
что разбазарят.
И Савл проснулся
Жил в Туле Савл Савлович.
Он к декабрю был бур.
К тому ж был прозван Саблею
За худобу.
И над крытым манежем висели снежинки,
И стояли навытяжку урны,
Когда он души проносил пружину
Тротуарами таракани.
И взлетали драконы из выхлопных
Тяжких джипов,
Когда взгляд его нащупывал их
Логотипы.
И собаки прятались за ларьки
От испуга.
И росла из конечной его руки
Вьюга.
И однажды случилось ему видение,
Что пора становиться публичным гением.
И тогда, двуногий клинок,
Снова смуглый,
Он своей биографией смог,
Словно углем,
Написать на глобусе: "Конституция".
И ещё: "Все растерянные вернутся".
В Думе собрали лидеров фракций
на совещание.
В самом начале предупредили,
что речь пойдёт практически
о государственной тайне.
Попросили не разглашать.
Тогда из кресла поднялся рейтинговый политик
и сказал, что уходит.
Потому что не выдержит
и всё передаст журналистам.
Во-первых, это достойно.
Во-вторых, мне кажется, так же
многие замирают на пороге внутренней тайны,
чувствуют,
что разбазарят.
И Савл проснулся
Жил в Туле Савл Савлович.
Он к декабрю был бур.
К тому ж был прозван Саблею
За худобу.
И над крытым манежем висели снежинки,
И стояли навытяжку урны,
Когда он души проносил пружину
Тротуарами таракани.
И взлетали драконы из выхлопных
Тяжких джипов,
Когда взгляд его нащупывал их
Логотипы.
И собаки прятались за ларьки
От испуга.
И росла из конечной его руки
Вьюга.
И однажды случилось ему видение,
Что пора становиться публичным гением.
И тогда, двуногий клинок,
Снова смуглый,
Он своей биографией смог,
Словно углем,
Написать на глобусе: "Конституция".
И ещё: "Все растерянные вернутся".
Перед тем, как вздрогнуть
и потерять направление мысли,
вспомни, что все дороги ведут домой,
твердеющие, как хлеб,
и размокшие, как селитра в палисаднике,
приводят тебя домой.
Это мысль, способная в комнате
заменить лампы,
кажется, её можно регулировать.
Всегда мы идём домой.
Даже перед сном,
придвигаясь к стене на разложенном в ночь диване.
и потерять направление мысли,
вспомни, что все дороги ведут домой,
твердеющие, как хлеб,
и размокшие, как селитра в палисаднике,
приводят тебя домой.
Это мысль, способная в комнате
заменить лампы,
кажется, её можно регулировать.
Всегда мы идём домой.
Даже перед сном,
придвигаясь к стене на разложенном в ночь диване.
Женщина в маршрутке по телефону
во весь голос решает рабочие проблемы:
в её магазине закончились ходовые товары.
Зин, может, подкинешь хоть что-нибудь?
Соседи сидят,
разглядывая спинки
или свои ботинки,
словно совет директоров,
думают, что делать с ассортиментом
и, Господи, как
наказать Павла,
глину глин,
грузчика Павла.
Заседание на колёсах.
В слякоти пол.
во весь голос решает рабочие проблемы:
в её магазине закончились ходовые товары.
Зин, может, подкинешь хоть что-нибудь?
Соседи сидят,
разглядывая спинки
или свои ботинки,
словно совет директоров,
думают, что делать с ассортиментом
и, Господи, как
наказать Павла,
глину глин,
грузчика Павла.
Заседание на колёсах.
В слякоти пол.
Встают из руин
материальны
и смотрят в долину
слова в которые верили
в которые верят
бегут по холмам звери
сияют спины
и это работа веры
глядящей сквозь тайны
стучащей ночами в двери
считающей все храмы
стоящими над долиной
стоящими над долиной
стоящими над долиной
материальны
и смотрят в долину
слова в которые верили
в которые верят
бегут по холмам звери
сияют спины
и это работа веры
глядящей сквозь тайны
стучащей ночами в двери
считающей все храмы
стоящими над долиной
стоящими над долиной
стоящими над долиной
Часть вторая
Говорит и записывает
информбюро,
повторяет записанное, поглядывает за порог.
Рядом мрамор колонн в паутине мигающей.
Теплится джинсовая рубашка.
И курортная зона, где всё принимается, и стража за ней.
Это важно.
Записывает информбюро:
бро,
человецы,
гвардия ближних миров.
информбюро,
повторяет записанное, поглядывает за порог.
Рядом мрамор колонн в паутине мигающей.
Теплится джинсовая рубашка.
И курортная зона, где всё принимается, и стража за ней.
Это важно.
Записывает информбюро:
бро,
человецы,
гвардия ближних миров.
Территория, где собирался править,
заросла травою,
кустами, деревьями,
сюда выпускают коз.
И полотенце на чьей-то рабице.
"Победа будет за нами", -
говорил мне маршал.
И вот за спиной победа.
И передо мной вопрос.
заросла травою,
кустами, деревьями,
сюда выпускают коз.
И полотенце на чьей-то рабице.
"Победа будет за нами", -
говорил мне маршал.
И вот за спиной победа.
И передо мной вопрос.
Когда болеешь,
понимаешь,
как мало действительно важного.
Артефакты - виньетки, равные самим себе.
Только "Отче наш"
и что-то за ним.
В алмазной пыли,
где играют в слонов журавли,
краснопогонной дали.
понимаешь,
как мало действительно важного.
Артефакты - виньетки, равные самим себе.
Только "Отче наш"
и что-то за ним.
В алмазной пыли,
где играют в слонов журавли,
краснопогонной дали.
Вот это и зовётся мастерство,
когда слова твои, а звук его.
И на горе над морем сильный свет.
Скажи - мы были музыкой в траве.
Надень сандали, выйди из всего,
что тишина, туда, где всё его.
Тунис и Филеримос, тесный мир.
Скажи - мы были затемно людьми.
И пусть... – скажи, и мы посмотрим вверх.
Мы были всеми, будем ближе всех.
когда слова твои, а звук его.
И на горе над морем сильный свет.
Скажи - мы были музыкой в траве.
Надень сандали, выйди из всего,
что тишина, туда, где всё его.
Тунис и Филеримос, тесный мир.
Скажи - мы были затемно людьми.
И пусть... – скажи, и мы посмотрим вверх.
Мы были всеми, будем ближе всех.
Анфилада белых комнат
с лепниной.
Кто-то играет, затерянный,
на пианино.
Двигаются занавески и блики солнца,
лет через двести кто-то проснётся.
Я выйду на воздух
в прилегающий парк
в репьи, словно звёзды, и жар, словно жар.
с лепниной.
Кто-то играет, затерянный,
на пианино.
Двигаются занавески и блики солнца,
лет через двести кто-то проснётся.
Я выйду на воздух
в прилегающий парк
в репьи, словно звёзды, и жар, словно жар.
Три девушки танцуют
в июне в пляжном баре.
Мы всё ещё репетируем счастье,
всё ещё что-то знаем.
в июне в пляжном баре.
Мы всё ещё репетируем счастье,
всё ещё что-то знаем.
Чувствуешь вдруг,
это юг.
Набросок всего,
сделанный кем-то в раю.
Здесь раскрывается
скомканная бумага.
Плющ наползает, поёт залетейская влага.
Пахнет в ночи газировкой и пахнет покоем.
Ранящий нас набросок,
щедрой рукою.
это юг.
Набросок всего,
сделанный кем-то в раю.
Здесь раскрывается
скомканная бумага.
Плющ наползает, поёт залетейская влага.
Пахнет в ночи газировкой и пахнет покоем.
Ранящий нас набросок,
щедрой рукою.
Женщины говорят больше
и в итоге смелей,
слова их длинны, как волосы,
волосы им родные.
Я видел змею в степи
под ногами,
и она для меня
впредь не фигура речи.
Был во дворцах,
стоял в полированных кабинетах
и до сих пор защищаюсь.
Новые, нам говорили, смыслы?
и в итоге смелей,
слова их длинны, как волосы,
волосы им родные.
Я видел змею в степи
под ногами,
и она для меня
впредь не фигура речи.
Был во дворцах,
стоял в полированных кабинетах
и до сих пор защищаюсь.
Новые, нам говорили, смыслы?
Словно картофельную ботву, сжать в горсти
всех гигантов у горизонта,
фобии греков,
чужие масштабы, бодрящие луковицы волос.
Кто? - приближаться к лицам.
Кто призывал куститься?
Встать или думать так?
Видимо, Фидий, как минимум, мрамором выстелен мрак.
Перешагиваешь тик-так.
Фидий с факелоносцами в ссылку идут в Лаос.
всех гигантов у горизонта,
фобии греков,
чужие масштабы, бодрящие луковицы волос.
Кто? - приближаться к лицам.
Кто призывал куститься?
Встать или думать так?
Видимо, Фидий, как минимум, мрамором выстелен мрак.
Перешагиваешь тик-так.
Фидий с факелоносцами в ссылку идут в Лаос.
Вот этот виноград зимой.
Хочу домой.
Туда, до поражений.
Всё, что известно
об этом месте.
Казалось мне, что я служу.
Такую глупость ли скажу?
Посмею?
Покажут мне, как я служил.
Расскажут. И надеюсь сил
достанет
припомнить виноград зимой.
И может, ты, защитник мой,
кивнешь, как память.
Хочу домой.
Туда, до поражений.
Всё, что известно
об этом месте.
Казалось мне, что я служу.
Такую глупость ли скажу?
Посмею?
Покажут мне, как я служил.
Расскажут. И надеюсь сил
достанет
припомнить виноград зимой.
И может, ты, защитник мой,
кивнешь, как память.
И всё-таки я продолжаю думать, что время
это приключение
и перед тем, как произнести слово "время",
нужно вымыть руки,
чтобы вспомнить, как получал билет и инструкции
и какое чудо клубилось вокруг,
очищая тебя,
в этот момент.
это приключение
и перед тем, как произнести слово "время",
нужно вымыть руки,
чтобы вспомнить, как получал билет и инструкции
и какое чудо клубилось вокруг,
очищая тебя,
в этот момент.
Ты любишь работу и пот,
тяжелые мышцы текста.
А я - замиранье всего
из детства.
И, может быть, этой земли
мы верно искали.
Я время на ней нашёл.
А ты затворенные дали.
тяжелые мышцы текста.
А я - замиранье всего
из детства.
И, может быть, этой земли
мы верно искали.
Я время на ней нашёл.
А ты затворенные дали.
Слова не имеют значений.
Их формы - с большого плеча.
Морозно. Вокзальные тени.
За снегом звезда горяча.
Как глупо, как, Боже мой, глупо,
что я собираюсь опять
какой-то обдумать поступок,
какое-то слово сказать.
В бездрожном твоём пармениде,
в ночном гераклите своём
когда-то и что-то я видел.
Глаза закрываю. Споём.
Их формы - с большого плеча.
Морозно. Вокзальные тени.
За снегом звезда горяча.
Как глупо, как, Боже мой, глупо,
что я собираюсь опять
какой-то обдумать поступок,
какое-то слово сказать.
В бездрожном твоём пармениде,
в ночном гераклите своём
когда-то и что-то я видел.
Глаза закрываю. Споём.
После всех философий - опыт молчания.
Сумма зданий.
В колбе клубящийся свет.
Это слишком красиво, чтобы показывать юным.
Это слишком известно тем, кто сед.
Бессловесные люди
в общественном транспорте,
фонари на границе.
Кажется, знаю секрет.
Сумма зданий.
В колбе клубящийся свет.
Это слишком красиво, чтобы показывать юным.
Это слишком известно тем, кто сед.
Бессловесные люди
в общественном транспорте,
фонари на границе.
Кажется, знаю секрет.
Там светились палатки
на пристани,
сувениры, сувениры, сувениры.
Поблизости развалины
античного храма.
Мимо вечером шли
теплокровные
мужчины и женщины
в бейсболках, куртках, шортах.
Запасались воспоминаниями,
сувенирами, сувенирами, сувенирами.
Клод Лоррен
Это настолько красиво,
что кажется кристаллом,
забытым помощником капитана
инопланетного корабля,
после вынужденной посадки на Земле.
Аборигены нашли артефакт,
вставили в оправу кольца,
поместили за музейные стёкла.
Но оправа так далека
от света внутри кристалла,
так странно с ним сочетается,
что можно увидеть корабль, раздвигающий тучу,
и туземцев с отблесками в глазах,
белыми, словно козий сыр, лицами.
Можно увидеть чудо.
Эта оправа - фигуры людей,
их роль в композиции.
Зеваки, статисты или фигуры алиби.
Которые, кстати, долго писал не Лоррен,
поручая друзьям.
И только ближе к старости
стал это делать
сам.
Ближе к тому моменту,
когда корабль должен был вернуться.
на пристани,
сувениры, сувениры, сувениры.
Поблизости развалины
античного храма.
Мимо вечером шли
теплокровные
мужчины и женщины
в бейсболках, куртках, шортах.
Запасались воспоминаниями,
сувенирами, сувенирами, сувенирами.
Клод Лоррен
Это настолько красиво,
что кажется кристаллом,
забытым помощником капитана
инопланетного корабля,
после вынужденной посадки на Земле.
Аборигены нашли артефакт,
вставили в оправу кольца,
поместили за музейные стёкла.
Но оправа так далека
от света внутри кристалла,
так странно с ним сочетается,
что можно увидеть корабль, раздвигающий тучу,
и туземцев с отблесками в глазах,
белыми, словно козий сыр, лицами.
Можно увидеть чудо.
Эта оправа - фигуры людей,
их роль в композиции.
Зеваки, статисты или фигуры алиби.
Которые, кстати, долго писал не Лоррен,
поручая друзьям.
И только ближе к старости
стал это делать
сам.
Ближе к тому моменту,
когда корабль должен был вернуться.
Людовик отстранил Вобана
и выстроил Версаль.
И времени, конечно, жаль:
оно потрачено на планы
походов и завоеваний
того, что стоит ликований,
в рубашке лёгкой любований,
почти бесслезных ликований.
Того, что чище, чем Версаль.
Над парком золотится месяц,
глядят в костры
шарообразные деревья,
шаропрекрасные миры.
и выстроил Версаль.
И времени, конечно, жаль:
оно потрачено на планы
походов и завоеваний
того, что стоит ликований,
в рубашке лёгкой любований,
почти бесслезных ликований.
Того, что чище, чем Версаль.
Над парком золотится месяц,
глядят в костры
шарообразные деревья,
шаропрекрасные миры.
Рубенс,
живописатель складок,
свет твой бесцелен и сладок,
как виноград,
как идея самой красоты.
Ясно, что ты
был туристом с горящей путёвкой.
Слишком вьющийся, меркуриански ловкий.
Надеюсь, по-прежнему любят.
Плоскогубый,
бегущий Рубенс.
живописатель складок,
свет твой бесцелен и сладок,
как виноград,
как идея самой красоты.
Ясно, что ты
был туристом с горящей путёвкой.
Слишком вьющийся, меркуриански ловкий.
Надеюсь, по-прежнему любят.
Плоскогубый,
бегущий Рубенс.
Интересно, что частная метафизика
смущает,
когда кто-нибудь говорит о надмирных
предметах и силах,
ангелах, как правило,
именно частно, с авторской девиацией,
дескать, это бездомные или санитары.
Вкручивает литературу в гимны.
Кричит через гул коллективной надежды,
разрушая арену, где идёт многотысячелетняя пьеса.
Расшатывая стены, спасаемые плющом.
Предлагая брудершафт седым рефери.
Первое, что думаешь: сколько ему лет.
Второе: когда бы каждый.
Третье, поправив пуговицу: прости его, метафизика.
смущает,
когда кто-нибудь говорит о надмирных
предметах и силах,
ангелах, как правило,
именно частно, с авторской девиацией,
дескать, это бездомные или санитары.
Вкручивает литературу в гимны.
Кричит через гул коллективной надежды,
разрушая арену, где идёт многотысячелетняя пьеса.
Расшатывая стены, спасаемые плющом.
Предлагая брудершафт седым рефери.
Первое, что думаешь: сколько ему лет.
Второе: когда бы каждый.
Третье, поправив пуговицу: прости его, метафизика.
Всё-таки это чудесное предприятие,
писать так, словно
твой язык - латынь,
знать, что слова покоя слабы,
что время уже сейчас
берет их в кольцо,
выцеливает места трещин и приобретенных пор,
и всё-таки думать, что эти
закутанные надеждой слова
доберутся до мест,
где всякое слово латынь.
писать так, словно
твой язык - латынь,
знать, что слова покоя слабы,
что время уже сейчас
берет их в кольцо,
выцеливает места трещин и приобретенных пор,
и всё-таки думать, что эти
закутанные надеждой слова
доберутся до мест,
где всякое слово латынь.
Се сад и буря
в кракелюре.
Вот в кресле всё.
Вот точек рой над е.
Вот всё встаёт
над рытвинами лье
и видит муз в ручье
по икры крепкие.
За глобусом, за ветками
свет внечешуйчатый,
спасённый, то есть, свет.
Поэзия должна быть рефератом.
Фуфайка видит сны наличной ваты.
Бредёт в долгах у этики эстет.
в кракелюре.
Вот в кресле всё.
Вот точек рой над е.
Вот всё встаёт
над рытвинами лье
и видит муз в ручье
по икры крепкие.
За глобусом, за ветками
свет внечешуйчатый,
спасённый, то есть, свет.
Поэзия должна быть рефератом.
Фуфайка видит сны наличной ваты.
Бредёт в долгах у этики эстет.
И всё-таки для чего
мы так обращаемся со словом,
что пришлось изобрести поэзию?
Для чего я считаю
это поэзией?
И почему
это действительно поэзия?
Хотя само слово
вызывает усмешку,
канцелярский холодок.
мы так обращаемся со словом,
что пришлось изобрести поэзию?
Для чего я считаю
это поэзией?
И почему
это действительно поэзия?
Хотя само слово
вызывает усмешку,
канцелярский холодок.
Возвращаясь к любимой теме, скажу:
идеальная фотография - миф,
и миф - это идеальная фотография.
Что-то настолько внешнее,
настолько автоматическое,
что тебе всякий раз тревожно
что-то из этого вычитать.
идеальная фотография - миф,
и миф - это идеальная фотография.
Что-то настолько внешнее,
настолько автоматическое,
что тебе всякий раз тревожно
что-то из этого вычитать.
Я не был в армии,
но думаю, что жизнь
в постиндустриальном - извините за лексику - обществе
на неё похожа.
С той разницей, что каждый из нас
солдат множества генералов,
получающий разнонаправленные приказы,
покидающий пост
в хаосе директив.
Может быть, это иллюзия свободы.
Может быть, это собственно
свобода,
состоящая в том,
что иерархия,
множась, теряет власть.
но думаю, что жизнь
в постиндустриальном - извините за лексику - обществе
на неё похожа.
С той разницей, что каждый из нас
солдат множества генералов,
получающий разнонаправленные приказы,
покидающий пост
в хаосе директив.
Может быть, это иллюзия свободы.
Может быть, это собственно
свобода,
состоящая в том,
что иерархия,
множась, теряет власть.
Приезжий поселяется в гостинице.
Встречают его максимально радушно.
Лучший номер
и тишина в коридоре.
Вечером, перед сном, хозяин гостиницы думает,
что всё было сделано идеально.
Гость лежит в темноте, смотрит в стену
и чувствует, что не может привыкнуть
к дому,
похожему на корабль,
занесённый песком возвращений.
Встречают его максимально радушно.
Лучший номер
и тишина в коридоре.
Вечером, перед сном, хозяин гостиницы думает,
что всё было сделано идеально.
Гость лежит в темноте, смотрит в стену
и чувствует, что не может привыкнуть
к дому,
похожему на корабль,
занесённый песком возвращений.
Размышление требует сил,
понимаешь это со временем,
силы валюта,
можешь потратить на многое,
выбираешь размышление,
руку в районе мимических морщин,
путешествие по территории, которая
заставлена статуями
сидящих во тьме,
стоящих в желобчатых плащах
над сколами скал,
похожих на инструменты
первобытных,
кто-то из них нашёл эту валюту
и потратил на странную позу,
на биржах, после торгов,
до сих пор считают возможным
сойтись за столом и в клинче,
решая был ли он прав,
в мире, построенном его инструментами,
стыдливо спрятанными в музей размышлений.
понимаешь это со временем,
силы валюта,
можешь потратить на многое,
выбираешь размышление,
руку в районе мимических морщин,
путешествие по территории, которая
заставлена статуями
сидящих во тьме,
стоящих в желобчатых плащах
над сколами скал,
похожих на инструменты
первобытных,
кто-то из них нашёл эту валюту
и потратил на странную позу,
на биржах, после торгов,
до сих пор считают возможным
сойтись за столом и в клинче,
решая был ли он прав,
в мире, построенном его инструментами,
стыдливо спрятанными в музей размышлений.
Воспоминание из детства.
Мы были в Хабаровске,
кажется, возле рынка или автовокзала.
В солнечный день.
Родители сказали, чтобы я подождал их.
Я разглядывал отражение в стекле.
Возможно, в первый раз заметил,
насколько реальным оно может быть.
Я видел перед собою то,
что должно было располагаться
за спиной.
Целый мир.
Потом разглядел за стеклом женщину,
которая что-то кричала мне.
Темноволосая женщина
с сумкой в руке
и досадой, именно что досадой, в лице.
Кричала, в сандалиях, потом смотрела по сторонам,
кого-то звала.
Как выяснилось,
я стоял перед женским туалетом
и должен был видеть
там, где свет творил чудеса,
совершенно иные картины.
Эту женщину помню теперь.
А вот отраженье едва ли.
Тут должен быть вывод.
Почему-то всегда говорят
или даже кричат,
что должен быть вывод.
Заметка
В случае, если бы я был
современным художником,
фриком,
верящим в себя,
провел бы акцию в центре Европы:
на какой-нибудь площади
установил символические часы
и в них поменял
символические батарейки.
Цилиндры гомерических размеров.
Циферблат, внушающий стадионам.
Потому что время европейской культуры уходит.
Она разряжается.
Стоило бы что-то сделать.
Библиотека
1.
За каплевидными в прожилках столами
астральной библиотеки
сидят Овидий с Горацием
и читают наши стихи,
слезы текут у обоих
от смеха.
- Графоманы что надо, - кричит Гораций.
- Маны надо что графы, - кивает Назон.
Кто-то подливает им в чаши
и заглядывает через плечо.
А над нами опять вертикальные капли,
гипсовый смотрит на них вазон.
В астральной библиотеке
редко
выключают свет.
2.
За горизонтом близкое лицо,
а мы не видим.
Тебя везли за слово, за кольцо,
овидий.
Наверное, ты понимал вполне,
что там прекрасно.
Но этот вечер,
тени на стене
поют, как праздник.
Мы были в Хабаровске,
кажется, возле рынка или автовокзала.
В солнечный день.
Родители сказали, чтобы я подождал их.
Я разглядывал отражение в стекле.
Возможно, в первый раз заметил,
насколько реальным оно может быть.
Я видел перед собою то,
что должно было располагаться
за спиной.
Целый мир.
Потом разглядел за стеклом женщину,
которая что-то кричала мне.
Темноволосая женщина
с сумкой в руке
и досадой, именно что досадой, в лице.
Кричала, в сандалиях, потом смотрела по сторонам,
кого-то звала.
Как выяснилось,
я стоял перед женским туалетом
и должен был видеть
там, где свет творил чудеса,
совершенно иные картины.
Эту женщину помню теперь.
А вот отраженье едва ли.
Тут должен быть вывод.
Почему-то всегда говорят
или даже кричат,
что должен быть вывод.
Заметка
В случае, если бы я был
современным художником,
фриком,
верящим в себя,
провел бы акцию в центре Европы:
на какой-нибудь площади
установил символические часы
и в них поменял
символические батарейки.
Цилиндры гомерических размеров.
Циферблат, внушающий стадионам.
Потому что время европейской культуры уходит.
Она разряжается.
Стоило бы что-то сделать.
Библиотека
1.
За каплевидными в прожилках столами
астральной библиотеки
сидят Овидий с Горацием
и читают наши стихи,
слезы текут у обоих
от смеха.
- Графоманы что надо, - кричит Гораций.
- Маны надо что графы, - кивает Назон.
Кто-то подливает им в чаши
и заглядывает через плечо.
А над нами опять вертикальные капли,
гипсовый смотрит на них вазон.
В астральной библиотеке
редко
выключают свет.
2.
За горизонтом близкое лицо,
а мы не видим.
Тебя везли за слово, за кольцо,
овидий.
Наверное, ты понимал вполне,
что там прекрасно.
Но этот вечер,
тени на стене
поют, как праздник.
Герой садится за стол,
тускнеют в углу доспехи:
мемуары и всё такое...
Вдали воскресает Троя.
Но полем бегут морпехи,
несут в рукавах глаголы
прошедшего времени,
смеётся герой, в-р-е-м-е-н-и,
которое он, наживая ахейский, прошёл.
Кустарник из стрел и прочее, что сумеет выдумать,
герой представляет
и вдруг замолкает, видимый.
Настолько, что лгать страшно.
Башни кивают пашням.
тускнеют в углу доспехи:
мемуары и всё такое...
Вдали воскресает Троя.
Но полем бегут морпехи,
несут в рукавах глаголы
прошедшего времени,
смеётся герой, в-р-е-м-е-н-и,
которое он, наживая ахейский, прошёл.
Кустарник из стрел и прочее, что сумеет выдумать,
герой представляет
и вдруг замолкает, видимый.
Настолько, что лгать страшно.
Башни кивают пашням.
Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд
и выслан посол
послушай в зыбучей-зыбучей стране тринидад
таинственный бродит монгол
в халате его золотая заря
серебряный ил
но ты слишком долго ждала звукоряд
чтоб я за тебя говорил.
и выслан посол
послушай в зыбучей-зыбучей стране тринидад
таинственный бродит монгол
в халате его золотая заря
серебряный ил
но ты слишком долго ждала звукоряд
чтоб я за тебя говорил.
Пересекая страницы,
виноградарские границы,
минуя ущелья, замки,
человек выходит из рамки.
Что ему там такое?
Лучше бы здесь, под рукою.
Этой закончить строкою,
но что ему там такое?
Ветер. Предлоги гнутся.
Там ему - право вернуться.
виноградарские границы,
минуя ущелья, замки,
человек выходит из рамки.
Что ему там такое?
Лучше бы здесь, под рукою.
Этой закончить строкою,
но что ему там такое?
Ветер. Предлоги гнутся.
Там ему - право вернуться.
Я разучился вам, блаженные слова,
и стал родным,
и вы вокруг стоите,
как снегопад,
со вспышкой снятый,
спасибо, собеседники, ребята,
прозрачные и белые друзья.
Закончились надежды, страхи, прятки,
теперь стоим в свету,
как бы в порядке.
Учению доступные едва ль.
и стал родным,
и вы вокруг стоите,
как снегопад,
со вспышкой снятый,
спасибо, собеседники, ребята,
прозрачные и белые друзья.
Закончились надежды, страхи, прятки,
теперь стоим в свету,
как бы в порядке.
Учению доступные едва ль.
Всё и всегда идёт мимо плана.
Каждое слово в этой фразе уязвимо.
Но Рим превращается
в руины Древнего Рима.
А с неба сыплется манна.
Наблюдай, игнорируй тени.
Планируй сделаться древним.
Каждое слово в этой фразе уязвимо.
Но Рим превращается
в руины Древнего Рима.
А с неба сыплется манна.
Наблюдай, игнорируй тени.
Планируй сделаться древним.
Из всех попыток, словно из кирпичей,
можно сложить мост
через громокипящий ручей.
Посмотреть на своё измерение и прилечь.
Зная, что там хорошо,
что здесь мучает речь.
Этот след настоящего, его отстающий шум,
эта пыль водяная за нами,
закат-звездопад-лукум.
можно сложить мост
через громокипящий ручей.
Посмотреть на своё измерение и прилечь.
Зная, что там хорошо,
что здесь мучает речь.
Этот след настоящего, его отстающий шум,
эта пыль водяная за нами,
закат-звездопад-лукум.
Говорят, сброшенные с парохода современности
вернулись на палубу,
простили
и попросили хлеба для птиц.
вернулись на палубу,
простили
и попросили хлеба для птиц.
Когда-то было хорошо.
А теперь получше.
В магазине "Сафари",
кубическом бутоне в зарослях бугенвиллий,
с подобием камня,
подобного носорогу, у входа,
где мы покупали специи и керамику,
через семь лет
можно купить специи и керамику.
Рядом, на заброшенном участке,
размером со стадион,
все тот же недостроенный отель,
подобный коробкам со специями,
поставленным в ряд.
За травами все так же видны
лепестки парашютов
над пляжами действующих отелей.
Только в этот раз
мы не играем в мини-гольф
на изъеденных климатом здешним
бетонных цветных дорожках
из галактики крашенных советских пионеров,
мы живём в другом месте.
Когда-то было хорошо.
А теперь получше.
А теперь получше.
В магазине "Сафари",
кубическом бутоне в зарослях бугенвиллий,
с подобием камня,
подобного носорогу, у входа,
где мы покупали специи и керамику,
через семь лет
можно купить специи и керамику.
Рядом, на заброшенном участке,
размером со стадион,
все тот же недостроенный отель,
подобный коробкам со специями,
поставленным в ряд.
За травами все так же видны
лепестки парашютов
над пляжами действующих отелей.
Только в этот раз
мы не играем в мини-гольф
на изъеденных климатом здешним
бетонных цветных дорожках
из галактики крашенных советских пионеров,
мы живём в другом месте.
Когда-то было хорошо.
А теперь получше.
Мимо правил русского языка
вывози, строка, седока.
Языком ложбин, сквозь репьи-ферзи
вывози.
Потому что что нам слоны равнин,
колеи гнедых и гладьи штанин,
нам, царапанным, мятым, фуфайковатым,
пешкам в схватке с кетцалькоатлем,
то ли в той Руси, то ли в Этруси,
если быть в седле, вывози.
вывози, строка, седока.
Языком ложбин, сквозь репьи-ферзи
вывози.
Потому что что нам слоны равнин,
колеи гнедых и гладьи штанин,
нам, царапанным, мятым, фуфайковатым,
пешкам в схватке с кетцалькоатлем,
то ли в той Руси, то ли в Этруси,
если быть в седле, вывози.
Мимо правил русского языка
вывози, строка, седока.
Языком ложбин, сквозь репьи-ферзи
вывози.
Потому что что нам слоны равнин,
колеи гнедых и гладьи штанин,
нам, царапанным, мятым, фуфайковатым,
пешкам в схватке с кетцалькоатлем,
то ли в той Руси, то ли в Этруси,
если быть в седле, вывози.
вывози, строка, седока.
Языком ложбин, сквозь репьи-ферзи
вывози.
Потому что что нам слоны равнин,
колеи гнедых и гладьи штанин,
нам, царапанным, мятым, фуфайковатым,
пешкам в схватке с кетцалькоатлем,
то ли в той Руси, то ли в Этруси,
если быть в седле, вывози.
Я повторяю названия предметов
и в памяти выращиваю каждый из них
из важной детали.
Кажется, то хорошее, что мы пытаемся сделать,
становится такой деталью
для того,
чья память будущее.
и в памяти выращиваю каждый из них
из важной детали.
Кажется, то хорошее, что мы пытаемся сделать,
становится такой деталью
для того,
чья память будущее.
Получил в подарок на Новый год
жаровню "Мечта".
Размышлял.
жаровню "Мечта".
Размышлял.
Был в трехлетнем возрасте в Гаграх.
Помню только
три солнечные картинки.
Но думаю, что забытое
слилось со внутренней панорамой счастья.
Встречая южные фотографии,
в журналах, лентах друзей,
чувствую, что попадаю
в мир больших предметов
и сияющих трещин в асфальте
из третьей картины.
Помню только
три солнечные картинки.
Но думаю, что забытое
слилось со внутренней панорамой счастья.
Встречая южные фотографии,
в журналах, лентах друзей,
чувствую, что попадаю
в мир больших предметов
и сияющих трещин в асфальте
из третьей картины.
Между трендами, брендами идут корабли
спокойных,
пена, страх и молекулы времени
вьются вокруг.
Напиши мне письмо и отправь с конвоем,
уходящим на юг.
Напиши мне письмо - на террасе в полосах света.
Расскажи, где нас ждут.
Потому что рокочут скалы.
Пейзажи чужой планеты.
И придуман
маршрут.
спокойных,
пена, страх и молекулы времени
вьются вокруг.
Напиши мне письмо и отправь с конвоем,
уходящим на юг.
Напиши мне письмо - на террасе в полосах света.
Расскажи, где нас ждут.
Потому что рокочут скалы.
Пейзажи чужой планеты.
И придуман
маршрут.
Когда слышишь
о новой концепции,
объясняющей мир и современную ситуацию,
чувствуешь что-то похожее
на радость болельщика
перед новым матчем,
ты чувствуешь магию этой игры,
помнишь скандалы вокруг,
имена звёзд
и даже биографии суперзвёзд
этой игры.
Ты знаешь, что этого матча
хватит на проблески счастья,
вспышки во сне и разговоры с друзьями
до новой игры.
Ты знаешь, что это предел.
Знаешь,
что автор концепции знает,
что это игра.
о новой концепции,
объясняющей мир и современную ситуацию,
чувствуешь что-то похожее
на радость болельщика
перед новым матчем,
ты чувствуешь магию этой игры,
помнишь скандалы вокруг,
имена звёзд
и даже биографии суперзвёзд
этой игры.
Ты знаешь, что этого матча
хватит на проблески счастья,
вспышки во сне и разговоры с друзьями
до новой игры.
Ты знаешь, что это предел.
Знаешь,
что автор концепции знает,
что это игра.
Часть третья
Выйдешь из тьмы, а там
красота,
ну да, красота,
и туман, и цветы в тумане,
зачем, скажешь ты,
а это просто цветы
и то, что хранила память,
там.
красота,
ну да, красота,
и туман, и цветы в тумане,
зачем, скажешь ты,
а это просто цветы
и то, что хранила память,
там.
В середине VI века при штурме Равенны
один из варваров
перешёл на сторону горожан,
сообщает Борхес
со ссылкой на Кроче.
Покинув хаос лесов,
он встретил идею порядка
и стал её формой,
сказал бы платоник.
Он стал предателем,
сказал бы генерал.
Пытаюсь представить -
встретил и стал.
В зазоры этого предложения
течёт небесный подстрочник.
один из варваров
перешёл на сторону горожан,
сообщает Борхес
со ссылкой на Кроче.
Покинув хаос лесов,
он встретил идею порядка
и стал её формой,
сказал бы платоник.
Он стал предателем,
сказал бы генерал.
Пытаюсь представить -
встретил и стал.
В зазоры этого предложения
течёт небесный подстрочник.
Во времени, словно в ботинках, идешь.
Где белые заросли неба,
где дождь.
Где белые заросли неба,
где дождь.
И капли те самые видишь,
которые делали вместе,
когда-то,
как буквы, как здешние вести.
которые делали вместе,
когда-то,
как буквы, как здешние вести.
И сделал он так,
что пришли к нему
через тьму.
Он принял даже верблюдов.
Возможно, первыми принял.
что пришли к нему
через тьму.
Он принял даже верблюдов.
Возможно, первыми принял.
Собирались войска в перелеске
и сдавали монахам оружие.
Генералы стояли поникшие.
И сиял почтальон.
Это было в истории светской.
А в соседней посланец контуженный
шел к Творцу с наилучшим известием.
И сиял почтальон.
и сдавали монахам оружие.
Генералы стояли поникшие.
И сиял почтальон.
Это было в истории светской.
А в соседней посланец контуженный
шел к Творцу с наилучшим известием.
И сиял почтальон.
Поют на французском. И я ничего не понимаю.
Но поют прекрасно.
Господи, ведь так же
со всем остальным.
Твоими деревьями, селениями, кафе и ночами,
похожими на испытательные полигоны.
И даже с твоими посланиями.
Только музыка и хрипотца.
И я, способный различить исполнительское мастерство,
слышать высочайшую гармонию.
Но ничего не понимать.
Чудо в том, что перевод мало прибавит.
И это знаешь.
Перевод настигнет меня, как будни.
Поют на французском, словно бы сам пою.
Но поют прекрасно.
Господи, ведь так же
со всем остальным.
Твоими деревьями, селениями, кафе и ночами,
похожими на испытательные полигоны.
И даже с твоими посланиями.
Только музыка и хрипотца.
И я, способный различить исполнительское мастерство,
слышать высочайшую гармонию.
Но ничего не понимать.
Чудо в том, что перевод мало прибавит.
И это знаешь.
Перевод настигнет меня, как будни.
Поют на французском, словно бы сам пою.
Когда-нибудь ты скажешь: этот труд
был важен.
И верные, встречая, запоют
с тяжелых башен.
Ты обернёшься, чтобы посмотреть
на это место,
пока оно сияет на заре,
как будто бы уже воскресло.
был важен.
И верные, встречая, запоют
с тяжелых башен.
Ты обернёшься, чтобы посмотреть
на это место,
пока оно сияет на заре,
как будто бы уже воскресло.
Как много попыток, идущих в зачёт.
И эта зачтется.
Смотреть позволительно только вперёд
и только на солнце,
когда собираешься, что-то сказать.
Когда собираешь
слова для того, кто давно рассказал
о том, что за краем.
И эта зачтется.
Смотреть позволительно только вперёд
и только на солнце,
когда собираешься, что-то сказать.
Когда собираешь
слова для того, кто давно рассказал
о том, что за краем.
На мосту танцуют люди
в фильме "Ла-ла-ленд".
Может, надо мною будет
и такой момент.
Солнце в небе. На рубашках.
Всюду свет.
И всего держатель скажет:
- Выдохни, эстет.
И, как будто забывая
тьму свою,
вздрагивая, со слезами
запою.
в фильме "Ла-ла-ленд".
Может, надо мною будет
и такой момент.
Солнце в небе. На рубашках.
Всюду свет.
И всего держатель скажет:
- Выдохни, эстет.
И, как будто забывая
тьму свою,
вздрагивая, со слезами
запою.
Пусть слова прирастают к тому,
что больше слов,
но всё-таки
соприродно,
словно дичок
к доброму дереву,
чтобы они научились
спасать,
питать,
шелестя, протягивать вверх.
В церкви
Вот стоишь перед всей византийской эстетикой
с белым лицом.
И темно тебе, холодно, если уж честно.
Только слышно, как всходят,
под скрип этой рифмы, на ледяное крыльцо
вынимающие из бездны.
что больше слов,
но всё-таки
соприродно,
словно дичок
к доброму дереву,
чтобы они научились
спасать,
питать,
шелестя, протягивать вверх.
В церкви
Вот стоишь перед всей византийской эстетикой
с белым лицом.
И темно тебе, холодно, если уж честно.
Только слышно, как всходят,
под скрип этой рифмы, на ледяное крыльцо
вынимающие из бездны.
Что важно понять?
Что важное важно,
за буквы взглянуть,
на воздух,
понятный и влажный,
на сборную тишину,
на город, который
вклинился в море
и там засверкал
янтарным огнём, без когтей, которых
не нужно,
а важно
лишь важное:
странно
билет покупать на финал.
Что важное важно,
за буквы взглянуть,
на воздух,
понятный и влажный,
на сборную тишину,
на город, который
вклинился в море
и там засверкал
янтарным огнём, без когтей, которых
не нужно,
а важно
лишь важное:
странно
билет покупать на финал.
Путешествие заканчивается
только тогда,
когда ты поворачиваешься на своей кровати
и она скрипит.
Как скрипела
до поездов, чужих городов
и белья на верёвках, которое видно с дороги.
Это голос покоя,
настоящее "здравствуй!"
твоего дома.
только тогда,
когда ты поворачиваешься на своей кровати
и она скрипит.
Как скрипела
до поездов, чужих городов
и белья на верёвках, которое видно с дороги.
Это голос покоя,
настоящее "здравствуй!"
твоего дома.
Можно быть славным,
но что толку,
если каждый день не прыгаешь в волка?
Кувыркаясь в его шерсти,
можно спасаемое спасти.
но что толку,
если каждый день не прыгаешь в волка?
Кувыркаясь в его шерсти,
можно спасаемое спасти.
Странный самый кофе
был там, возле развалин замка
госпитальеров.
В лабиринте брусчатки и белых стен,
на поверхности лета.
Заведение было полутёмным,
на пороге сидела жара, словно сосед,
чьи морщины известны наперечёт и новости.
Горячая взвесь, каждый атом которой казался агентом надежды.
Чувство, что ты возвращаешься,
через время и новую физику,
на землю всегдашнего счастья.
был там, возле развалин замка
госпитальеров.
В лабиринте брусчатки и белых стен,
на поверхности лета.
Заведение было полутёмным,
на пороге сидела жара, словно сосед,
чьи морщины известны наперечёт и новости.
Горячая взвесь, каждый атом которой казался агентом надежды.
Чувство, что ты возвращаешься,
через время и новую физику,
на землю всегдашнего счастья.