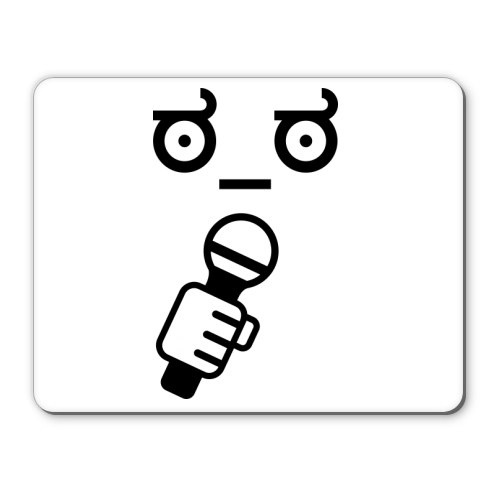Снимки страниц глянцевых и не только журналов, сделанные на просвет одним кадром без использования графических программ. Это не коллажи и не результат многократной экспозиции. По сути, это документальные кадры (чтобы в этом убедиться, просмотрите на просвет страницы любого журнала). Однако они получаются, как минимум, странными – фантазматичными, будто специально скомпилированными, составленными в графических программах.
На содержательном уровне эти кадры – символ или иллюстрация того, что остается в сознании читателя-зрителя после прочтения-пролистывания журнала. Они – фрагмент картины мира, которую то или иное СМИ “дарит” своим потребителям.
Эта трактовка определила название проекта – «Медиа после медиа» – а) изображение за изображением, как, собственно, они и расположены на журнальном листе; б) другое, фантазматическое, склееное в коллажи метамедиа, возникающее в сознании после пролистывания издания.
Считается, что мы живем в эпоху глянца. Глянец – это не то, что покрывает изображение, это то, что покрывает изображением все остальное, впитывая в себя глубину, цвет, форму, яркость и контраст – заставляя время остановиться в вечном настоящем фотокадра, убегающего кинокадра, карточки инстаграм. Нет больше глянцевой культуры, культуры глянца – есть лишь глянец в форме культуры.
Глянценированные рецепты, глянценированные тела женщин, мужчин и животных, глянценированные статьи в научных СМИ – где к словам и предложениям предъявляют те же требования, что и к медиаобразам. Ясность и отчетливость картезианских требований к любым образам превратила в итоге всю культуру в культуру глянца: даже смутное и безнадежное, наивное и маргинальное вынуждено упаковываться в глянец.
Глянцевая культура не имеет оборотной стороны, она целиком поверхностна, у нее нет тыла – сплошной фронт, анфас – и нет профиля.
Зритель пробует ее перелистать, открыть глубину, но ее нет – на обороте все то же самое. Наивный зритель бежит к экрану, срывает его и видит, что за ним ничего нет. Но кто сегодня видел наивного зрителя?
Но что же делать? Как вернуть наивность зрителю и глубину кадру? Никак. Только не давать глянцу захватывать нас своей формой. И вот метод, который предъявляет Денис Бычихин – дезавуировать глянец, взглянуть сквозь него в буквальном смысле! Сделать именно то, чего так хочет глянец, но сам выполнить не может.
В новой оптике Дениса Бычихина глянец перестает быть формой репрезентации и становится формой нового коллажного и самодезавуирующегося эстетического опыта – опыта сопротивления глянцу, который он сам же нам податливо предлагает.
Глянец не в силах сопротивляться этой технике, и он не восстает из нее, а исчезает, соглашаясь сыграть с нами в причудливых постмодернистских коллажах Бычихина.
Любая фотография – неопределённый объект. Она нуждается в контексте, чтобы сработать каким-либо образом. Мы почти не сталкиваемся с фотографиями, вырванными из «экосистем» других изображений или лишёнными подписей. Поэтому значительная часть работы выбравшего фотографический медиум художника обычно заключается в убеждении: ему необходимо направить зрителя к однозначному восприятию неопределённого серийного изображения, полученного техническими средствами. Если повседневные фотографии выполняют свои функции благодаря презумпции прозрачности (в силу которой нас интересуют не сами фотографии, а то, что ими подаётся), то в художественной фотографии на первый план выходит всё, что не видно глазу, будь то оцениваемое по неясным критериям мастерство автора или, к примеру, наслаиваемые нами смыслы и подтексты. Другими словами, очень часто фотография становится искусством в тот момент, когда её визуальное воздействие перевешивается концептуальным антуражем, институциональной мифологией и эмоциональными либо интерпретативными инвестициями смотрящих. В такие моменты фотографический опыт замыкается в себе.
Работы Дениса Бычихина выделяются на этом фоне тем, что в них на передний план выходит исследовательская составляющая. Объекты этих фотографий – другие фотографии в специфическом контексте печатной коммуникации, пропущенные через процедуру запечатления просвета бумажного листа. Такой метод подкупает своей изящной простотой и отсутствием претенциозности (он в чём-то близок традиции found art, особенно коллажным книгам из газет, которые делал в 1960-е годы Берн Портер), а также подаёт отличный пример того, как можно делать фотографию искусством, не подгоняя её под мерки других искусств. Эти работы не столько убеждают нас в чём-то, сколько обучают через серию занимательных примеров. Мы видим в них то, как можно смотреть на мир. Наш обыденный зрительный опыт полон таких имплицитных возможностей, для доступа к которым достаточно проявить любопытство, изобретательность и здравое недоверие к рутине и привычке. Важно отметить, что подобные возможности доступны каждому (в художественных экспериментах воспроизводимость ценна не меньше, чем в научных), и это подчёркивается органичной для фотографии серийностью представленных на выставке работ. По сути, они оказываются слепками визуальных отношений, случайность и необязательность которых не отменяет производимых ими эффектов и воздействий. Пожалуй, именно внимание к случайностям и стремление понять их – то, что связывает исследовательскую установку с художественной, а также позволяет этим работам не замыкаться в себе и влиять на наши способы видения и изменения повседневного мира.
Эту серию я начал делать в конце сентября 2014 года — после того, как увидел глаза, которые смотрели на меня через текст страницы “Русского репортера” с рекламной фотографии на следующей странице. Я взял фотоаппарат, поднес лист к лампе и начал.
Покупая журналы, заимствуя их у знакомых, пропуская “на просвет” старые фотокниги и даже каталоги совриска, я пополняю эту серию больше девяти лет. Это кажется чрезмерным, ведь суть феномена
и приема можно показать в трех или чуть сверх того фотографиях.
Продолжая этим заниматься, я вспоминаю “Снежинку” Уилсона Бентли, который первым сумел сфотографировать кристаллы снега до того, как они растаяли, и — внимание! – потом долгие годы снимал их, сделав в итоге более пяти тысяч фотографий снежинок.
Считается, что таким образом он хотел доказать, что каждая снежинка уникальна. Мне кажется, что он хотел это не доказать, а ПОКАЗАТЬ – существенная разница. 5000 предсказуемых по сообщению, но всякий раз впечатляющих по ФОРМЕ снимков. Инерция “эврики”, растянутая на годы.
Зачем же я делаю что-то сильно похожее и к каким выводам пришел?
Во-первых, это красиво.
Во-вторых, это доказывает — как минимум, мне — что всякая действительность связана с другой действительностью, что любые границы на самом деле прозрачны и проницаемы. Что прибитые, загнанные
в скучный угол истинами сциентизма*, культом ее величества науки, снобской модой на атеизм, мы все равно мало что знаем о том, насколько проницаемы границы нашего мира, как много рядом других миров.
Так что длительность этой серии — вызов. Еще это форма благодарности —
за то, что снежинки предсказуемо разные. Так же, как фотографии журнальных страниц, сделанные на фоне лампы.

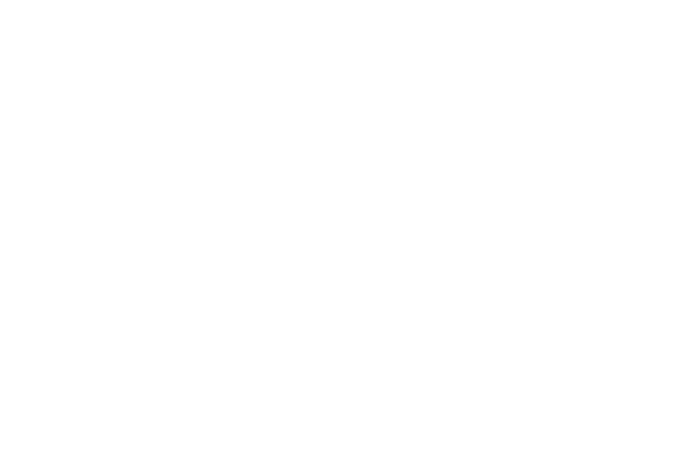
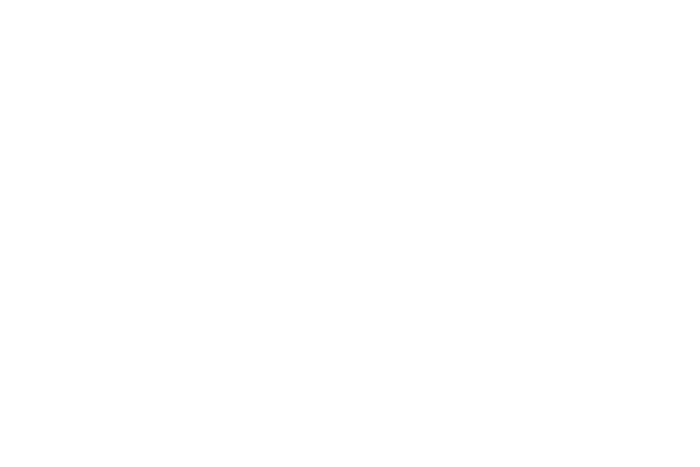
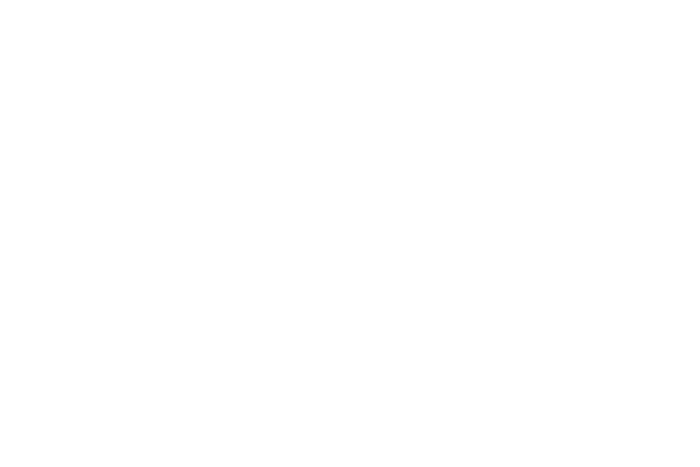
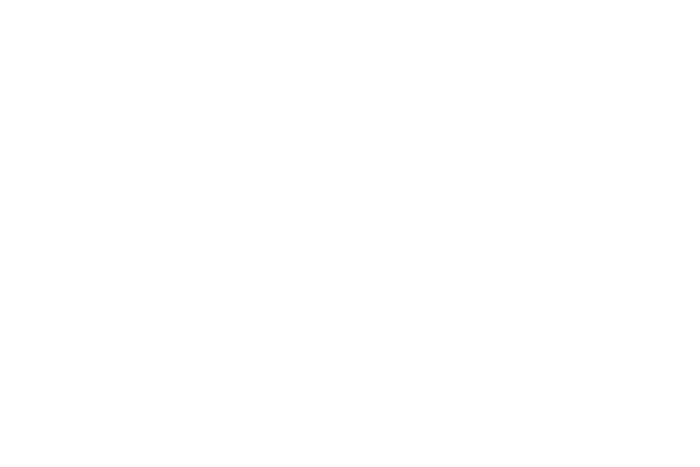
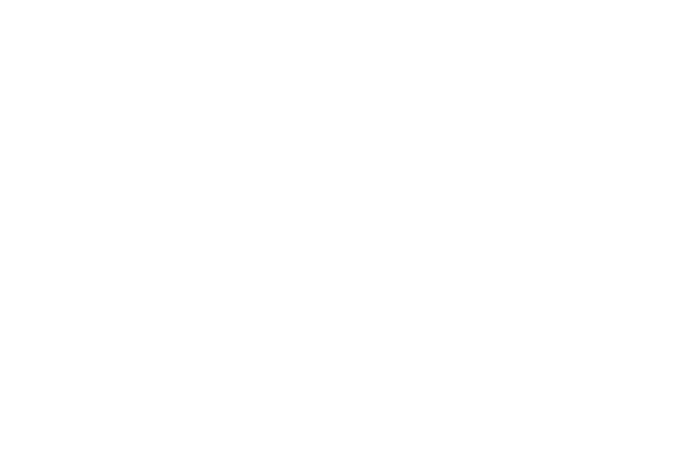



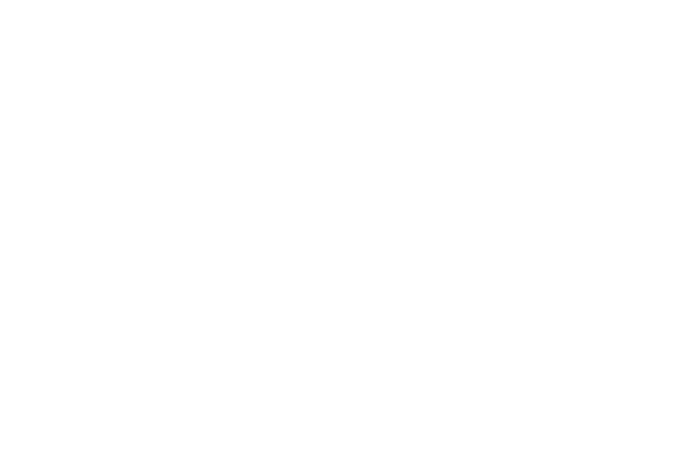
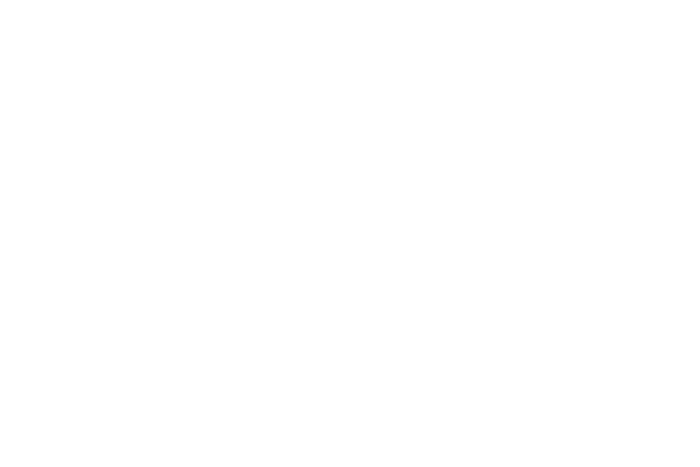
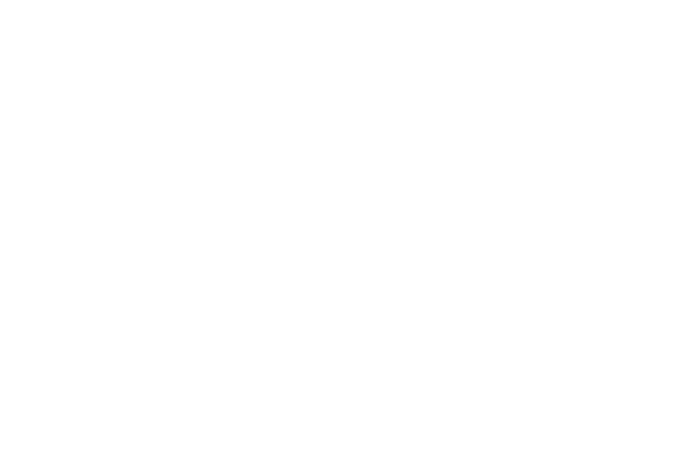
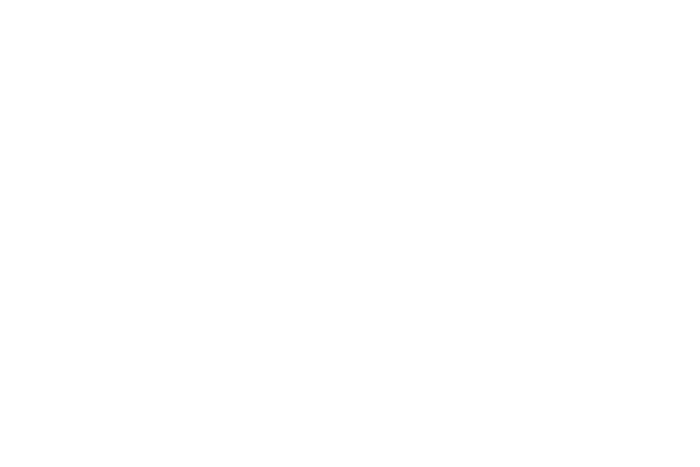

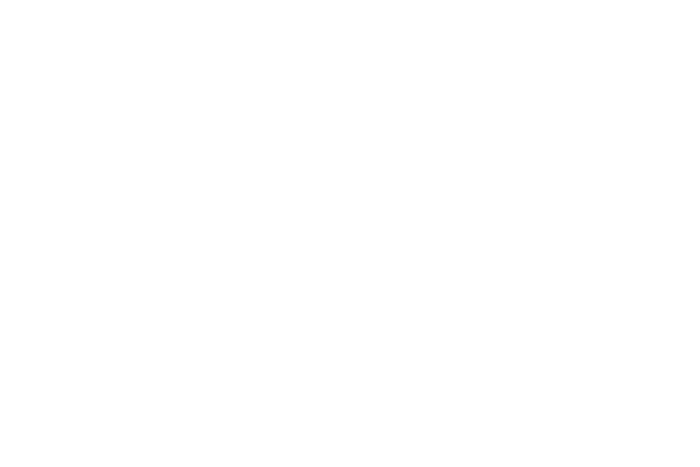
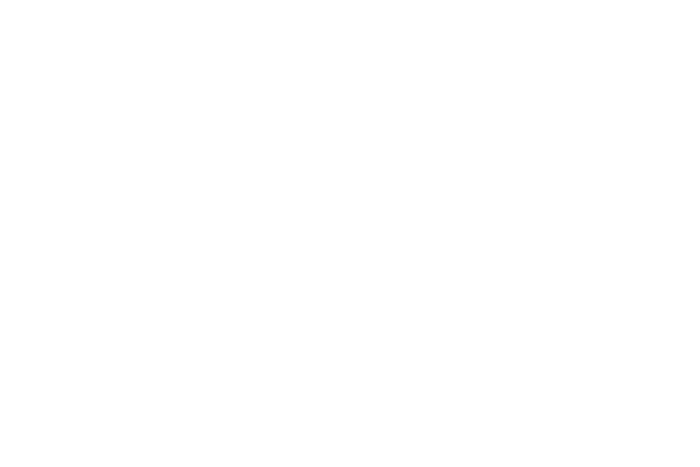
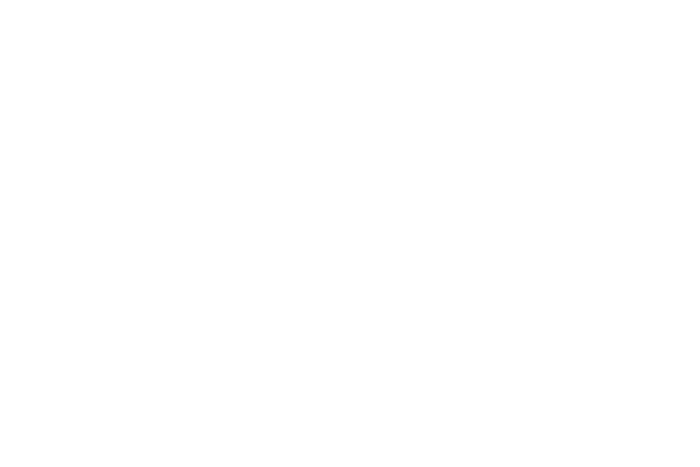
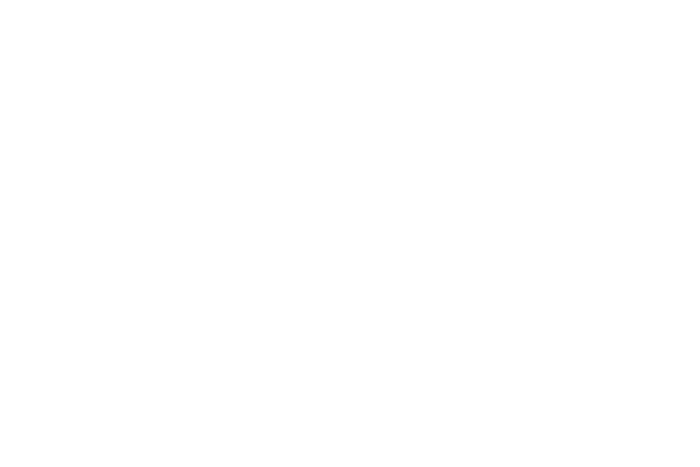
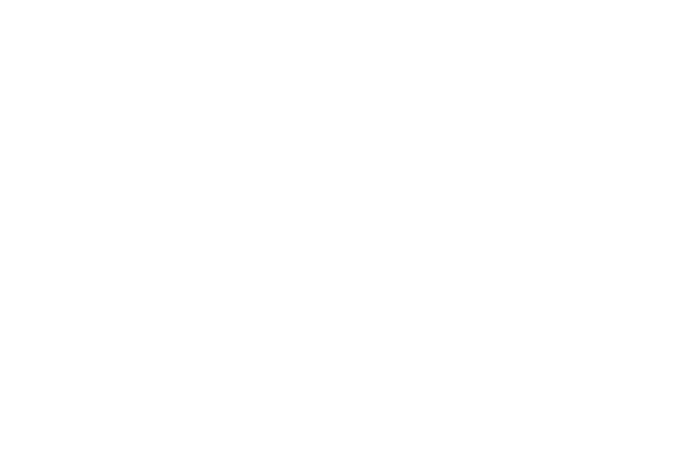
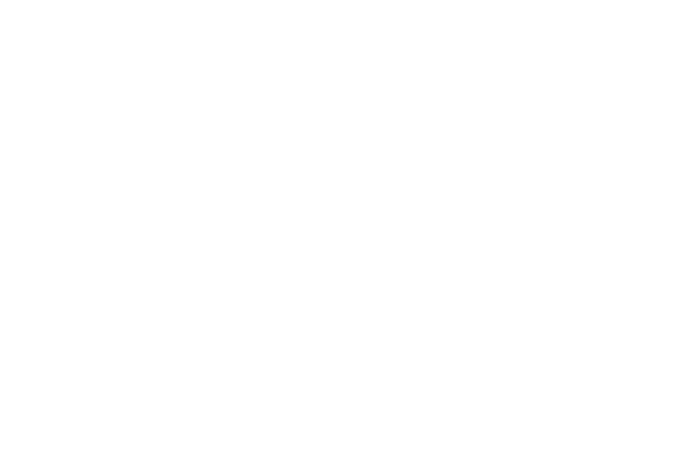

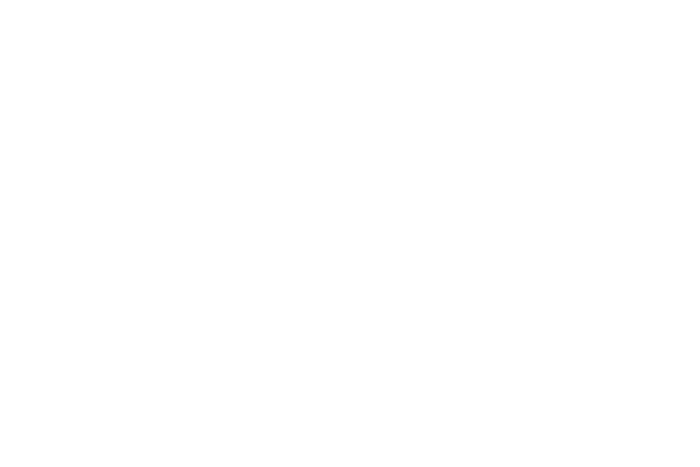
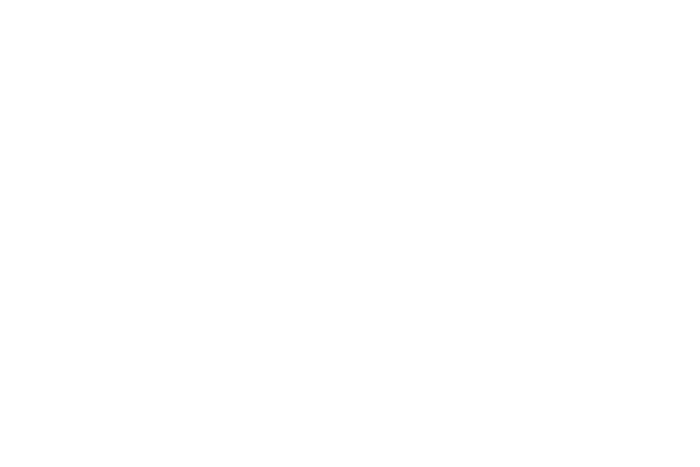

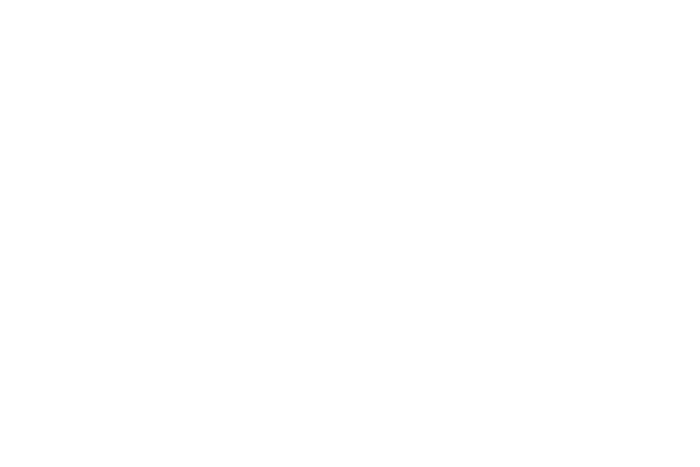
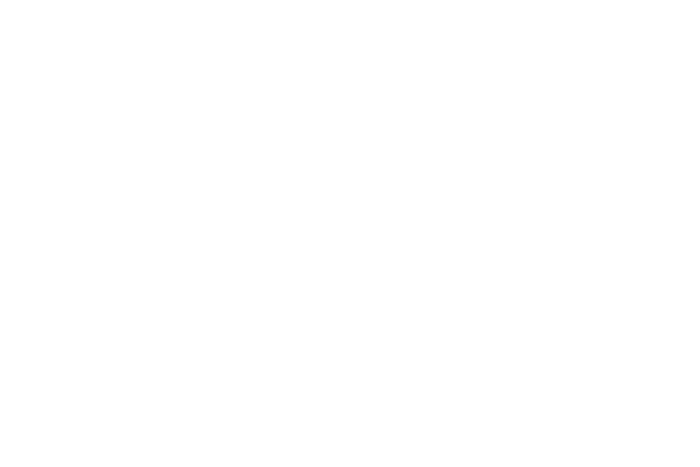
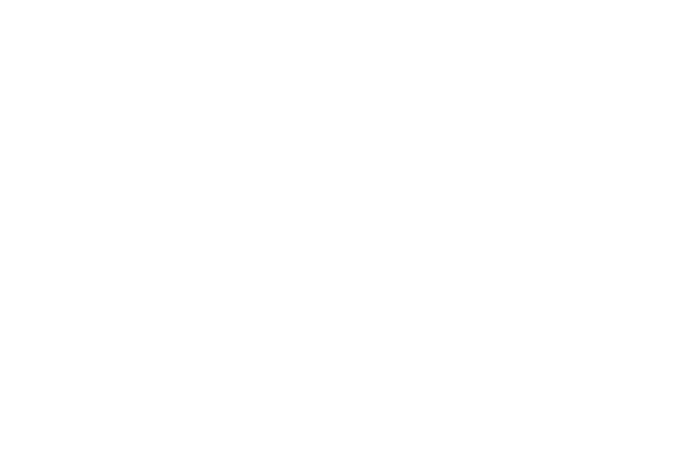

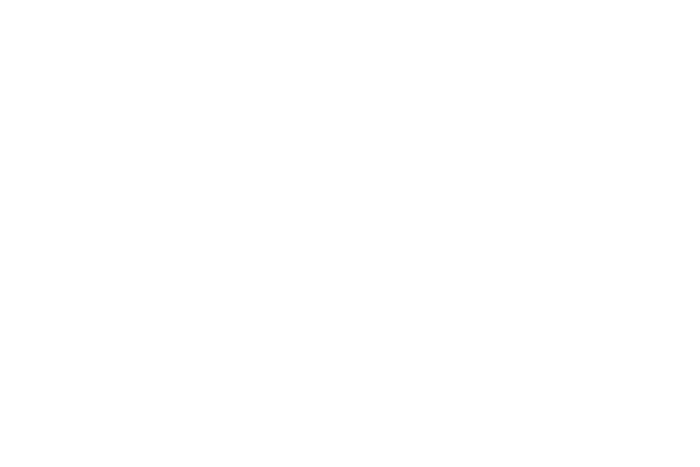
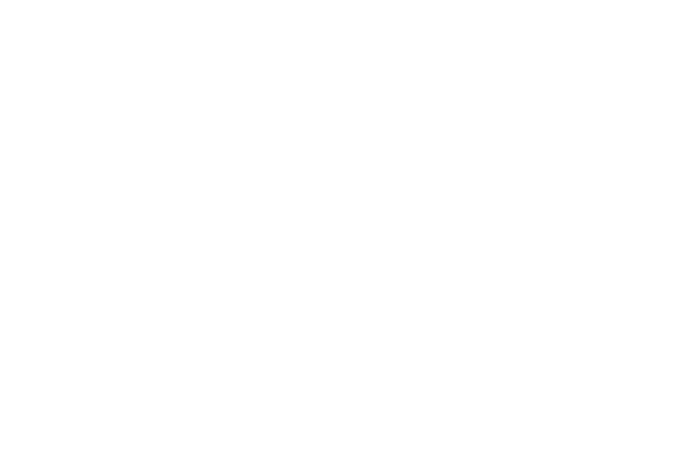
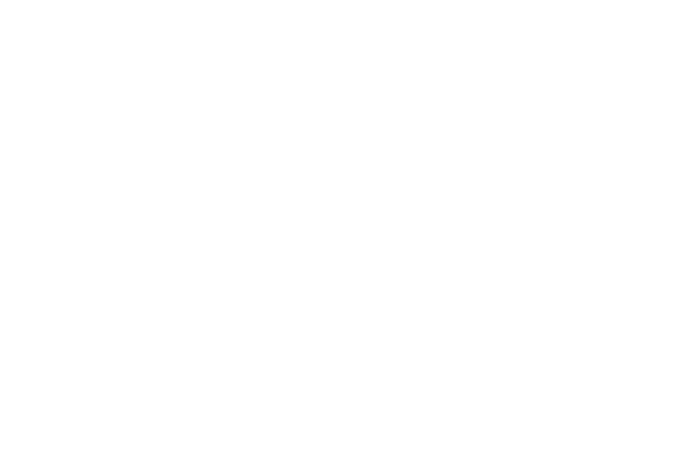

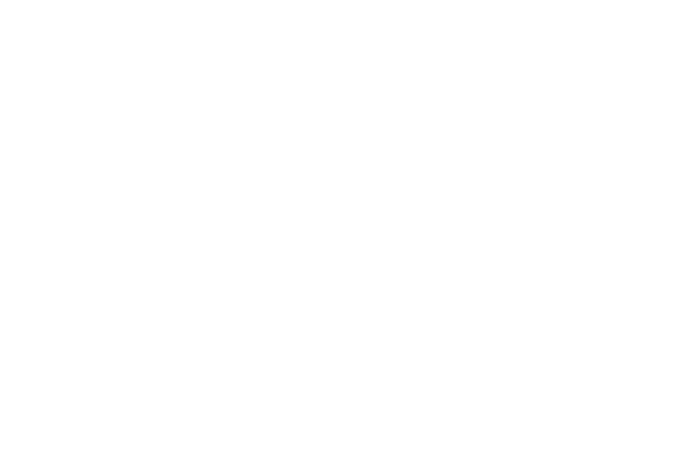
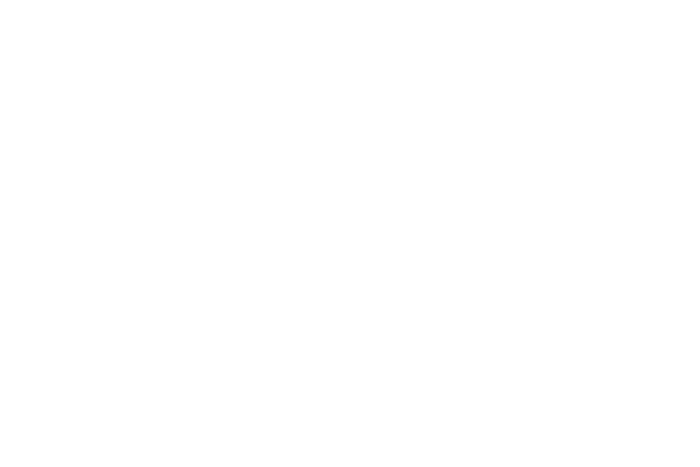
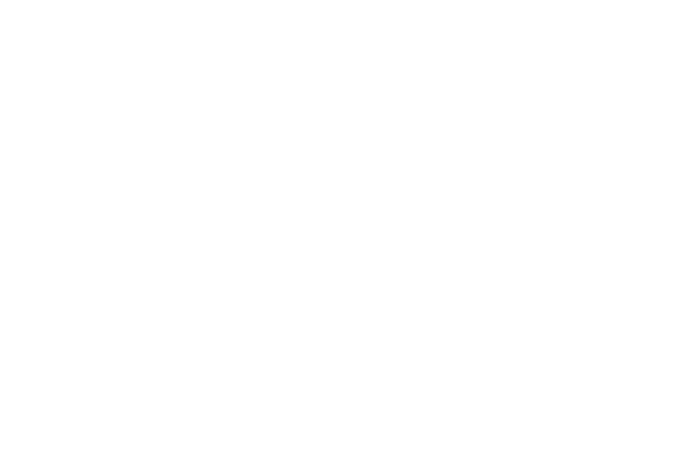
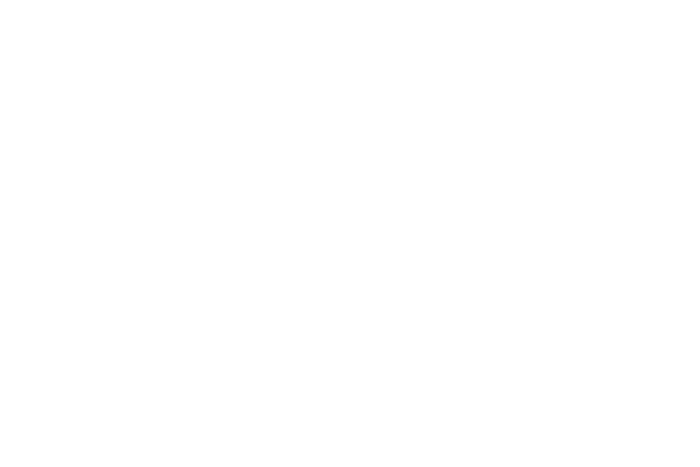
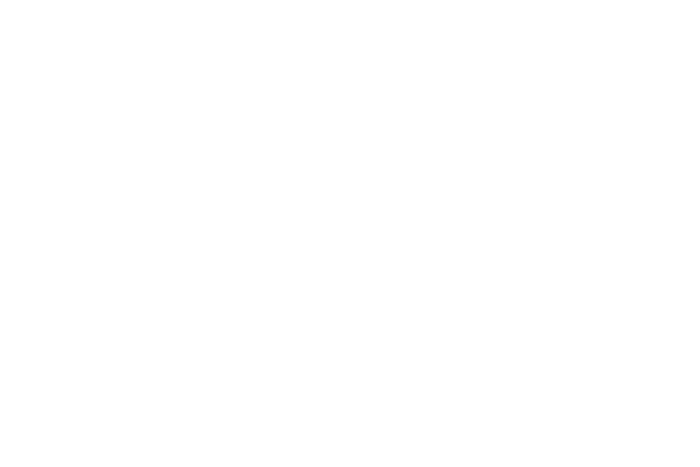
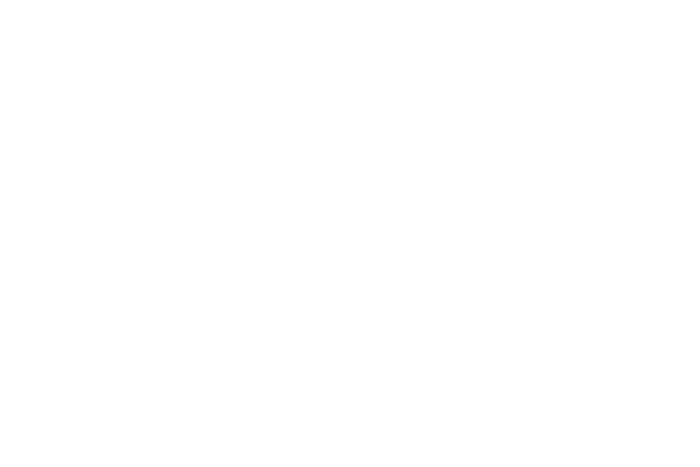
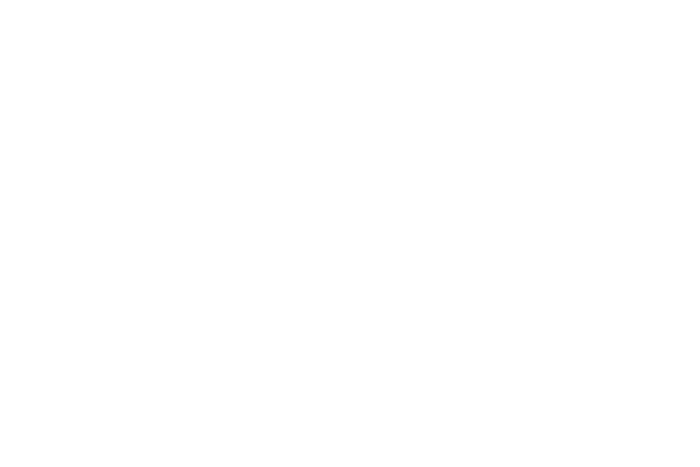
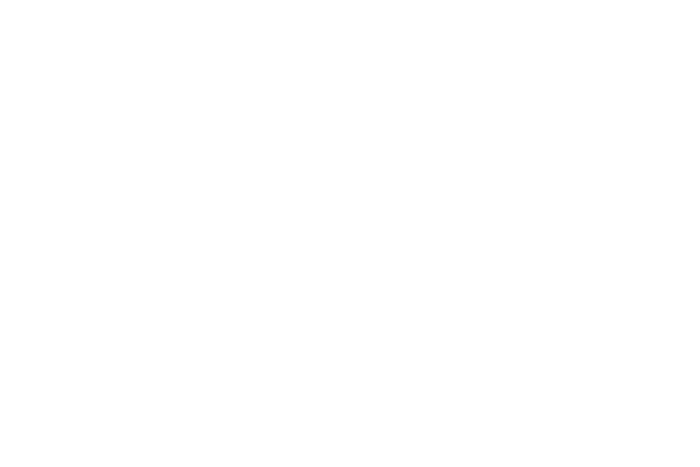
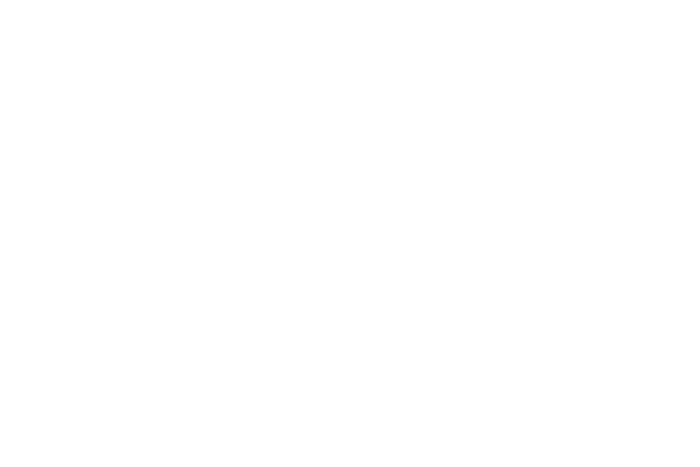
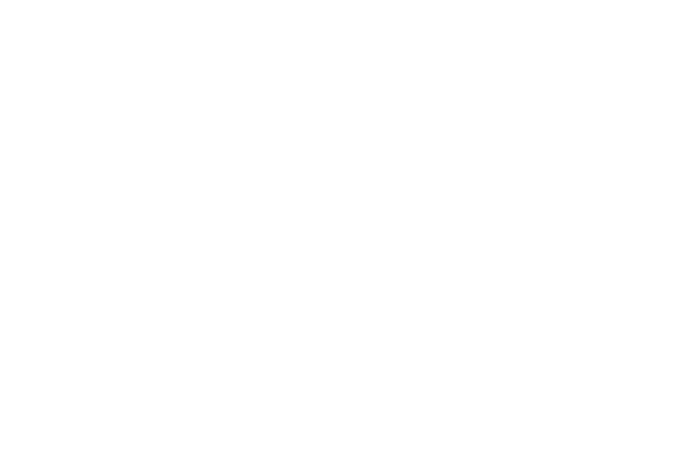
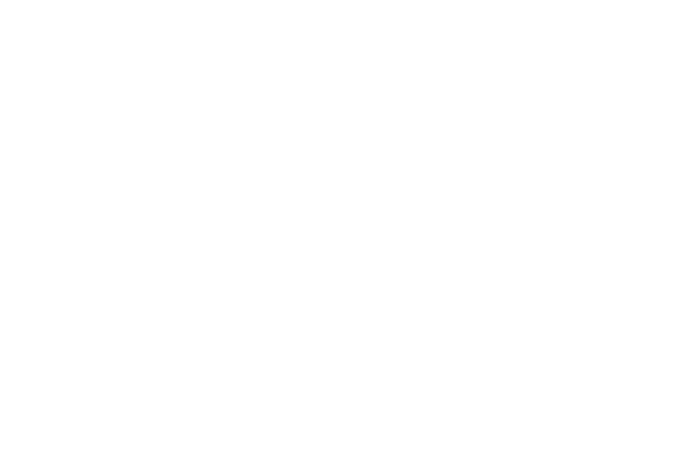
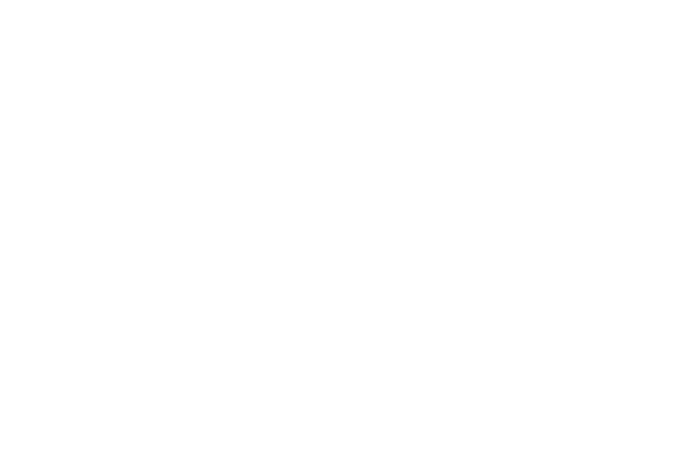
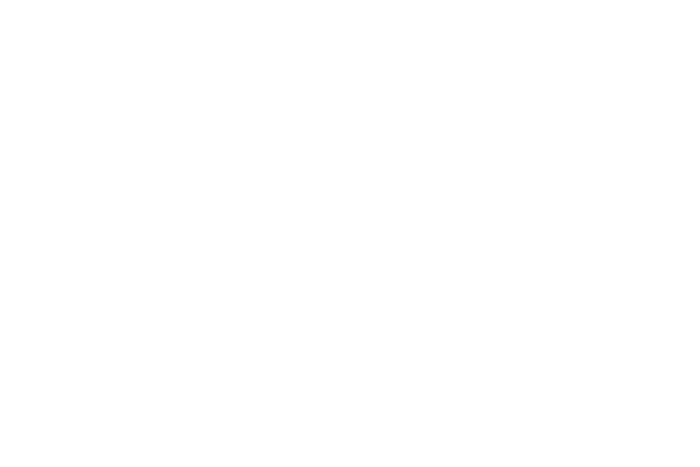
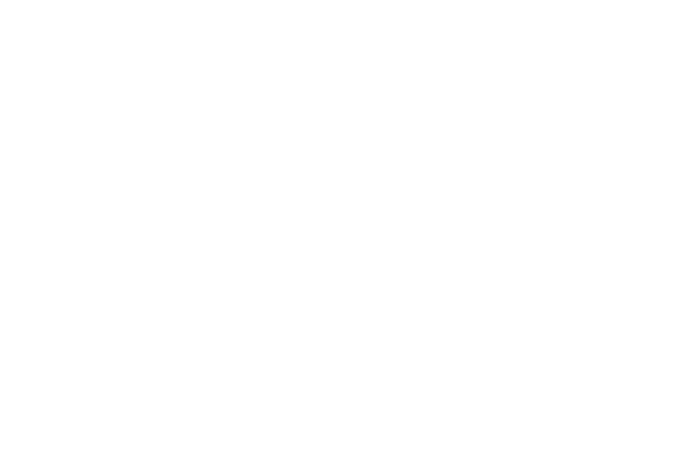
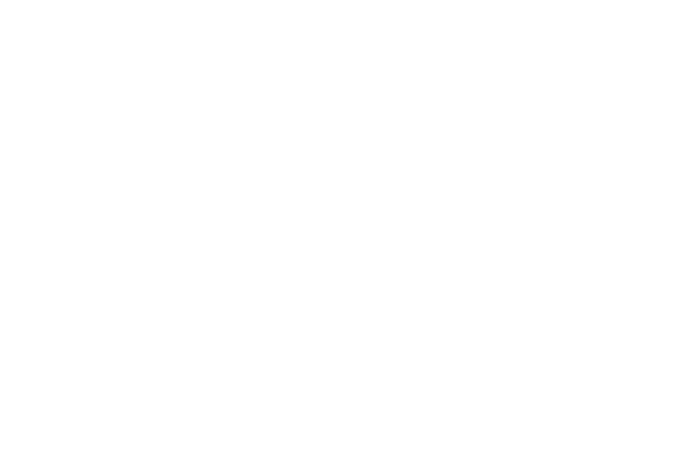
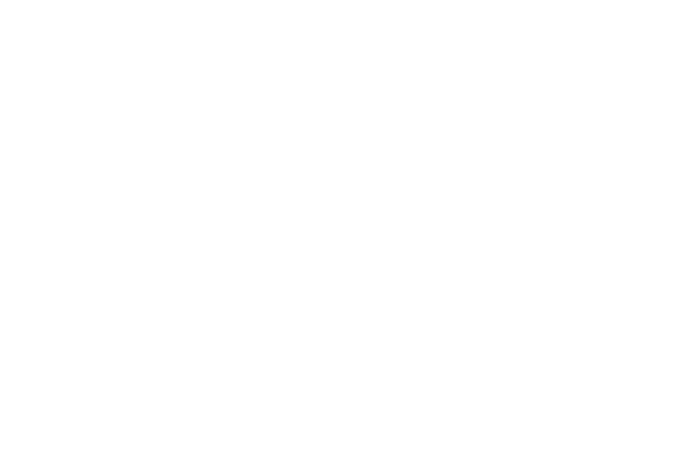
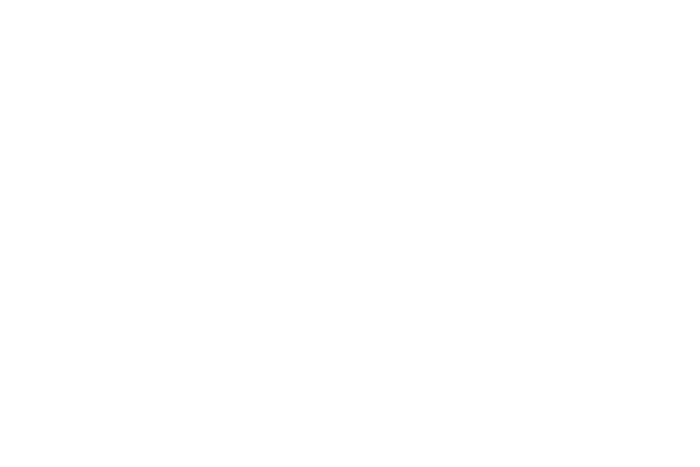
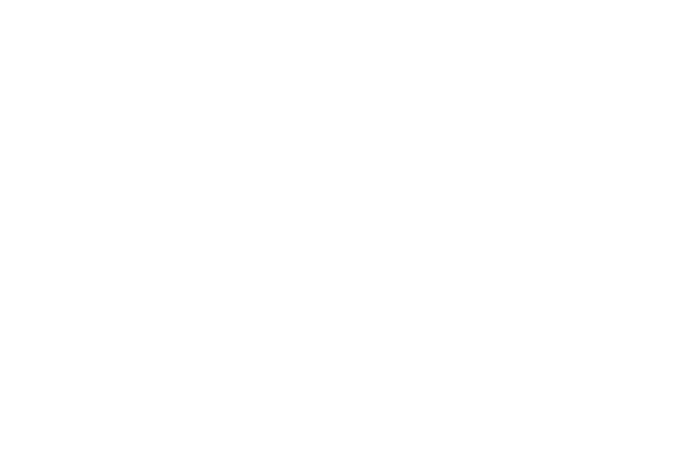
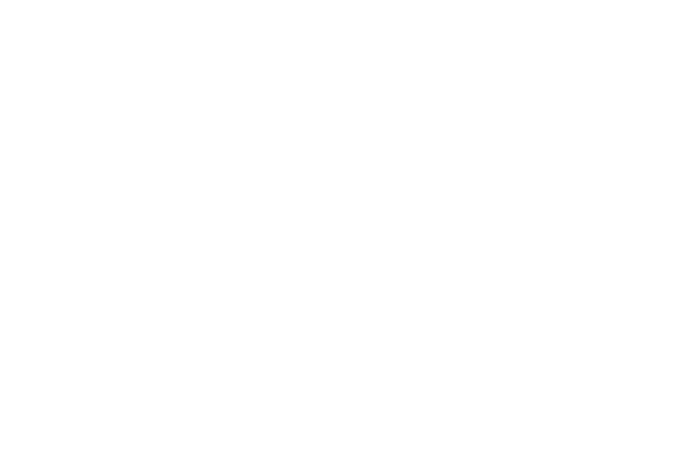
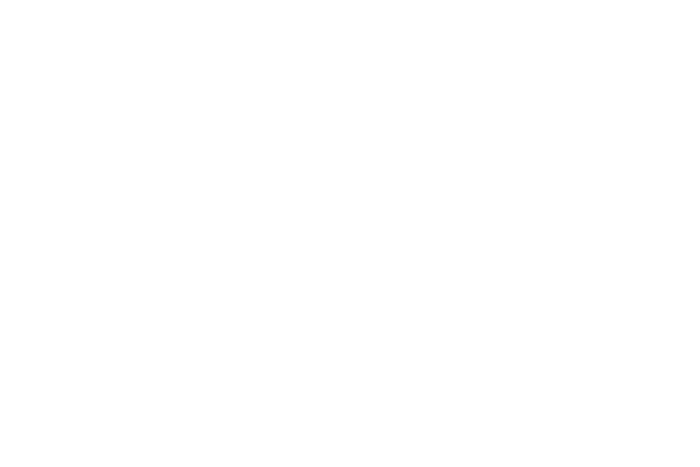
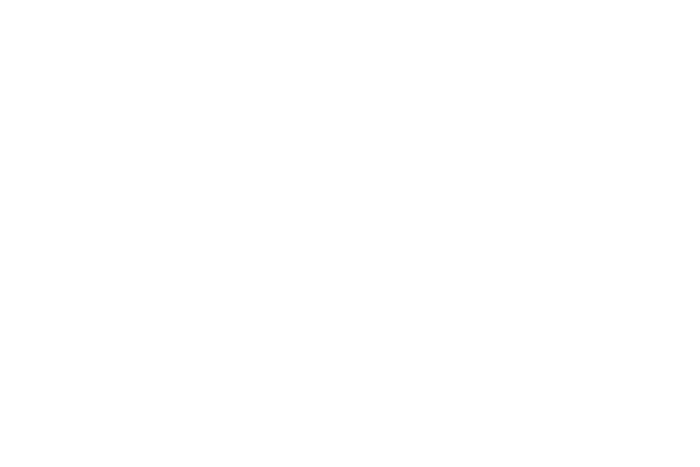
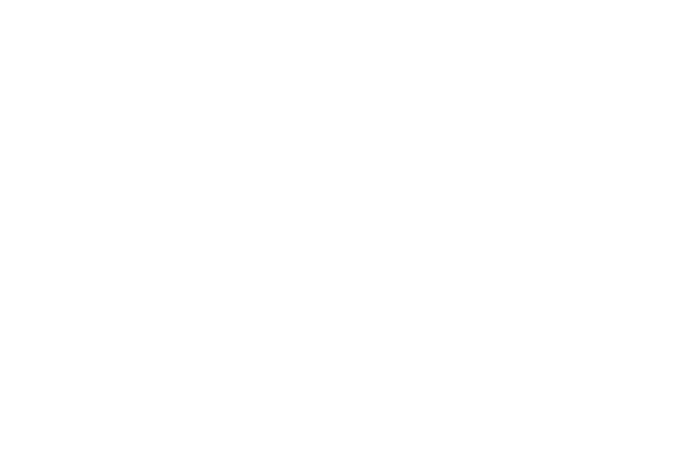
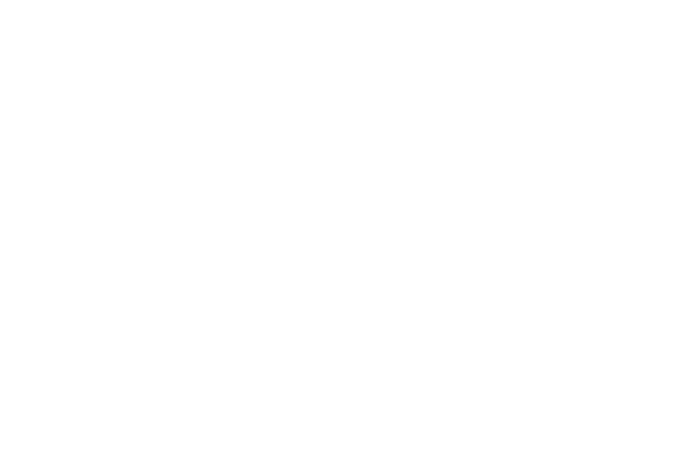
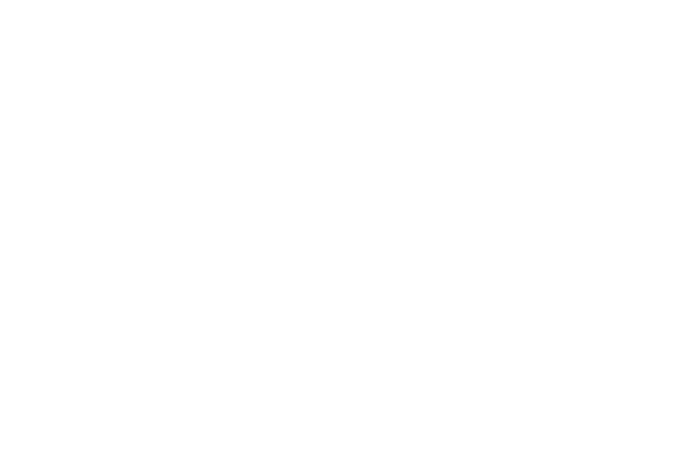
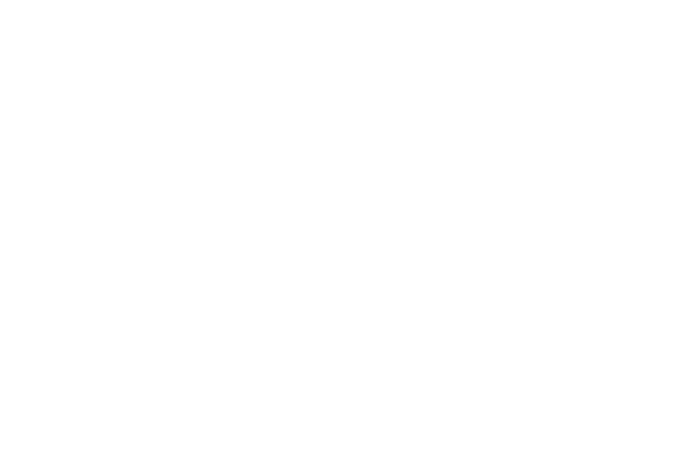
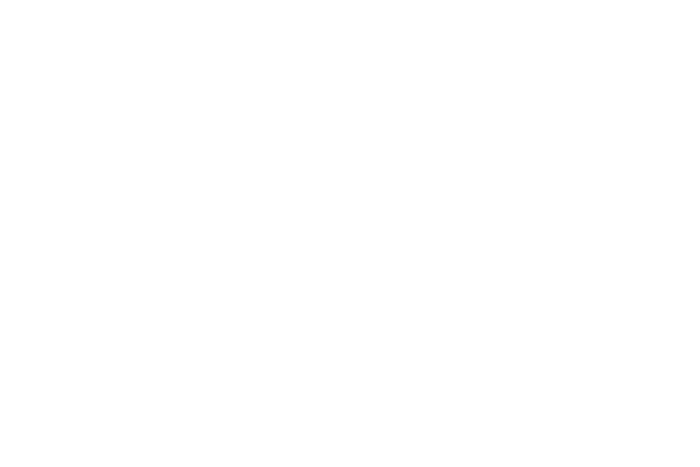
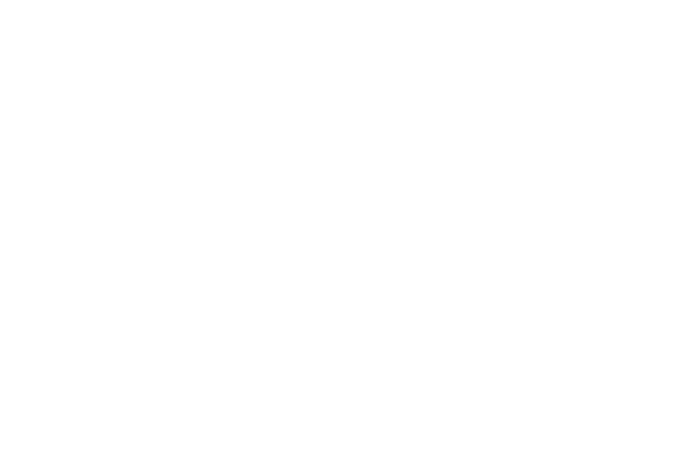
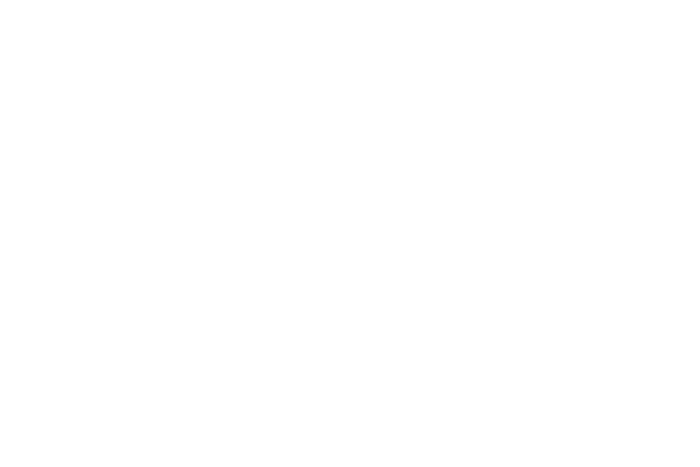
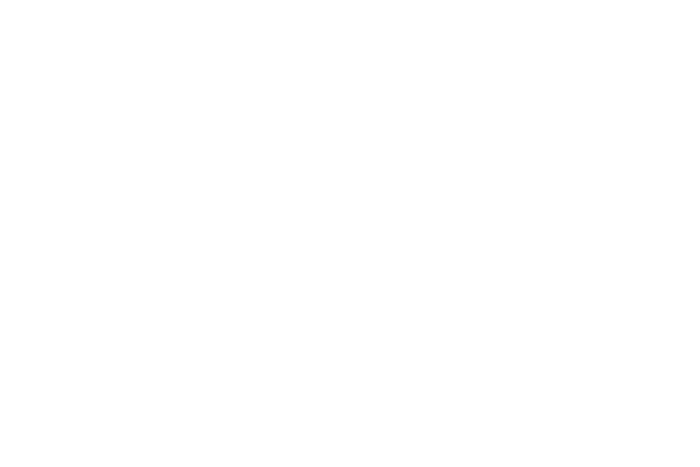
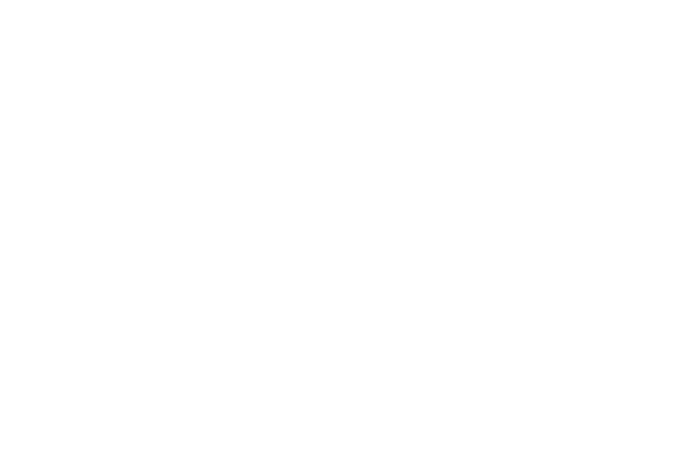
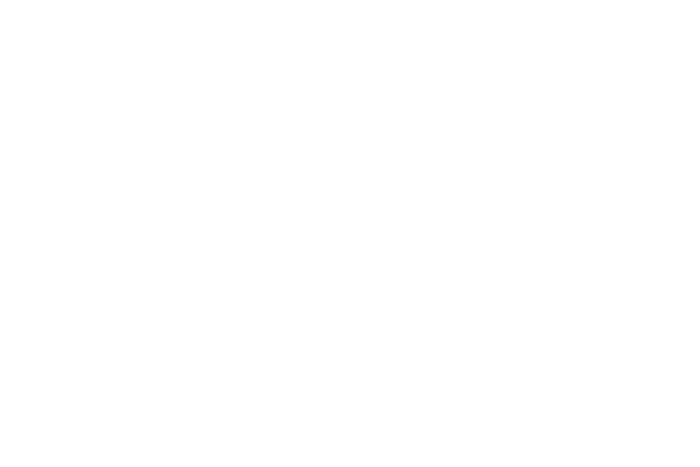
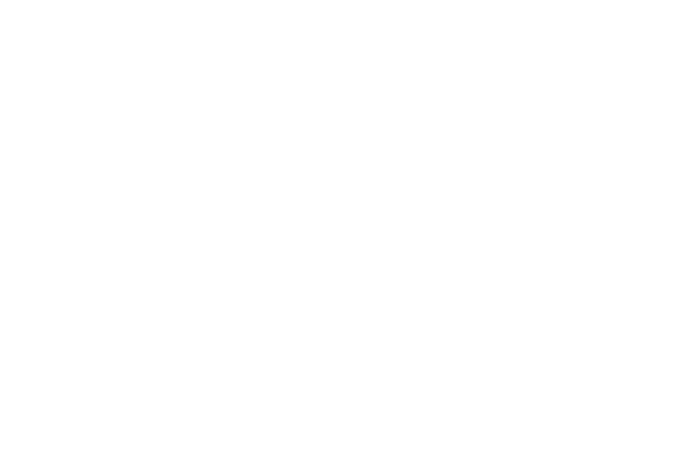
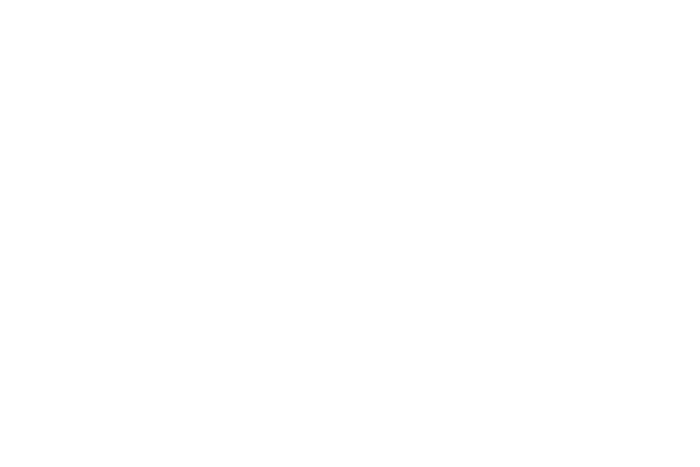
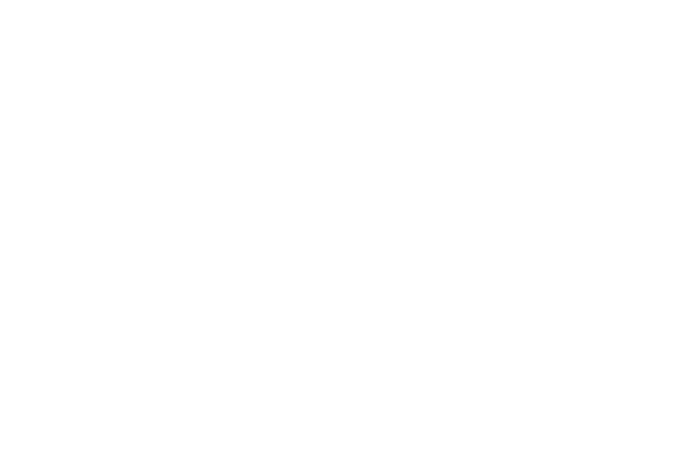
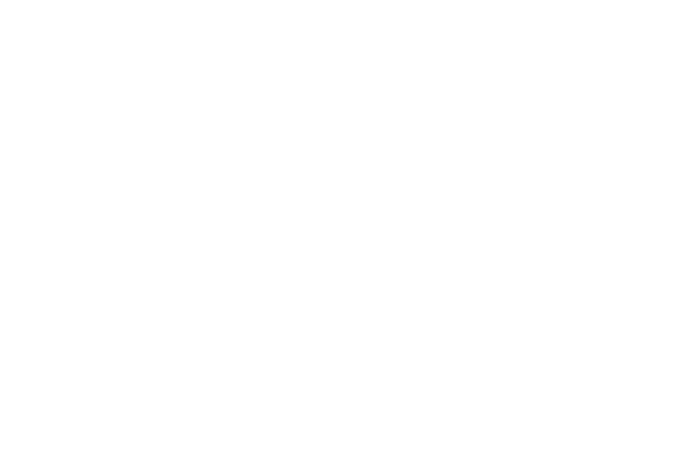
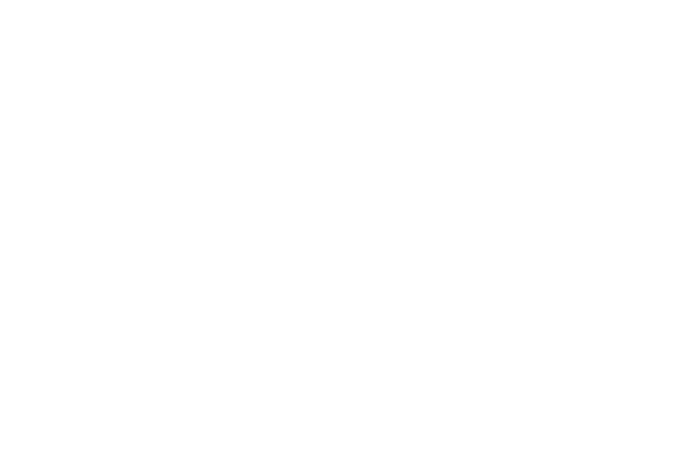
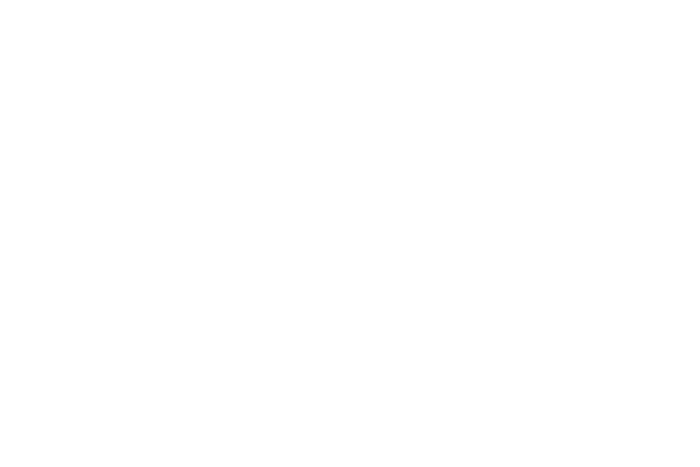
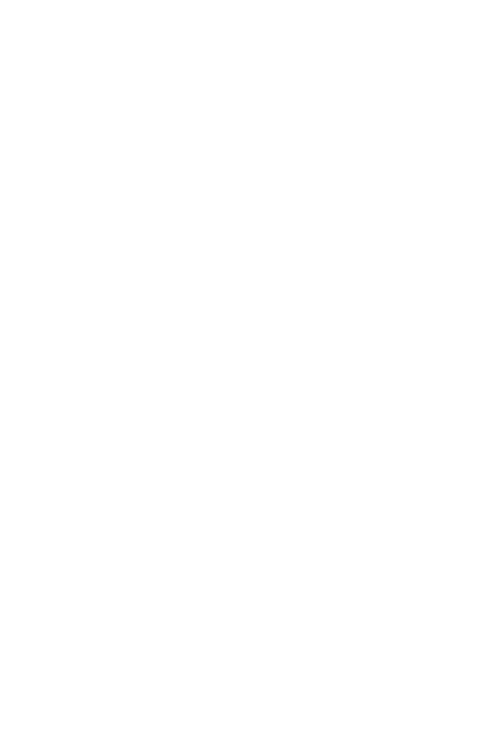
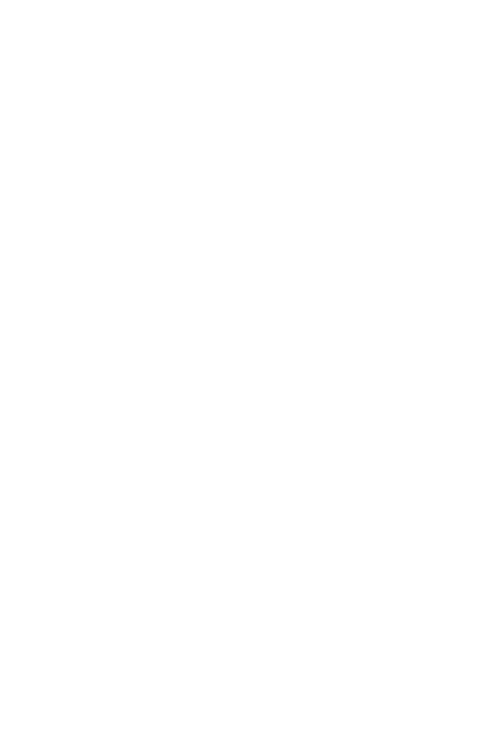
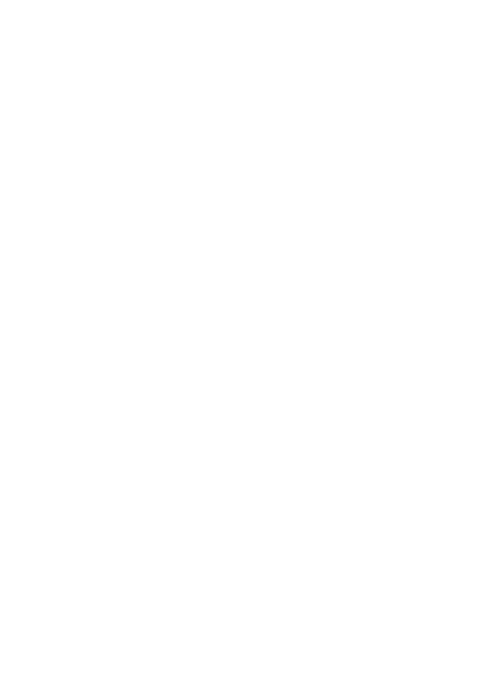
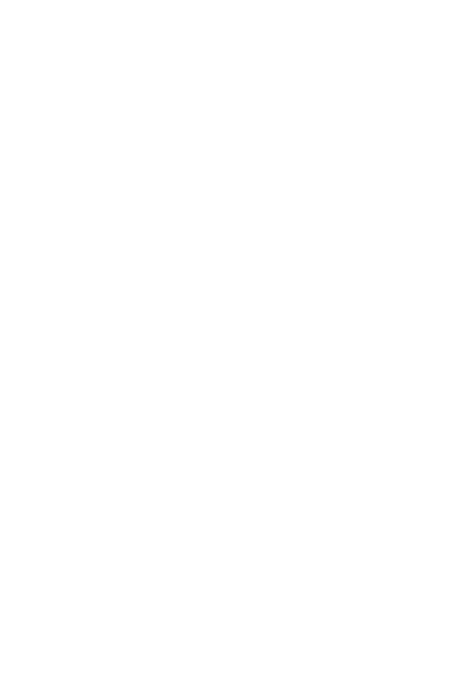
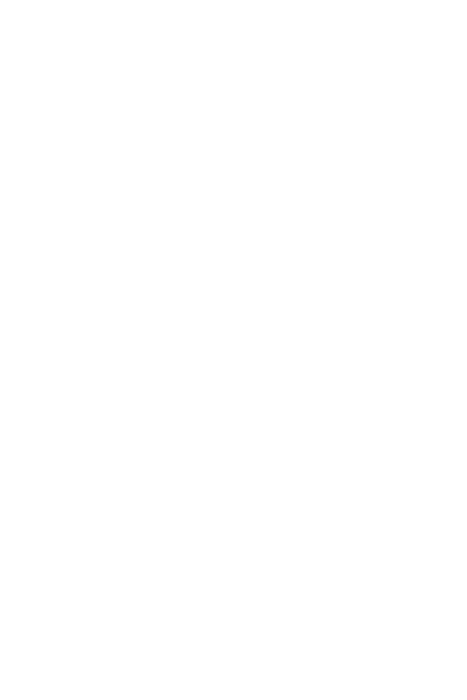
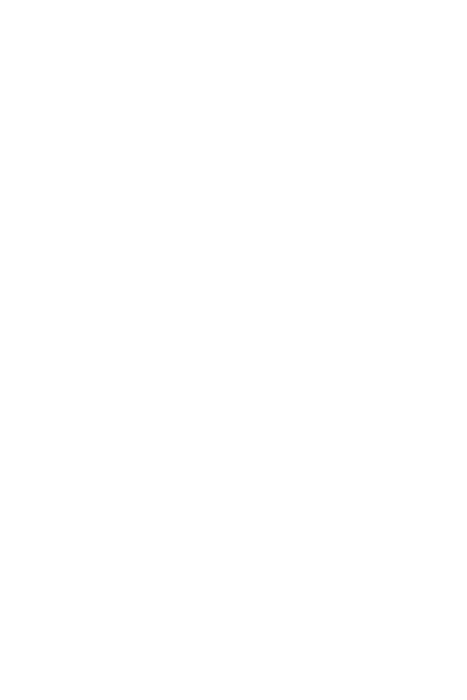


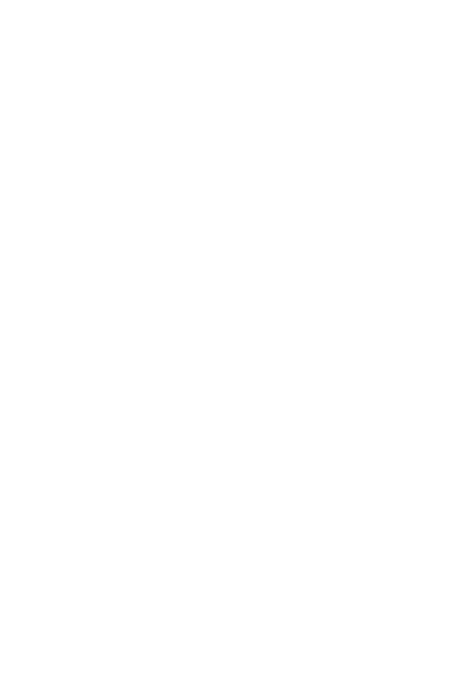


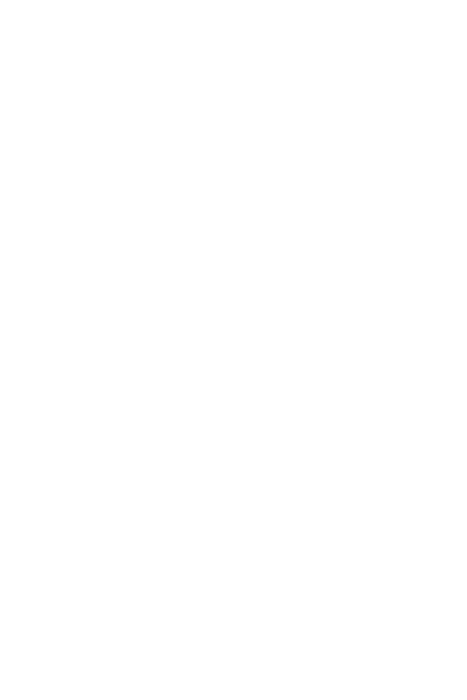
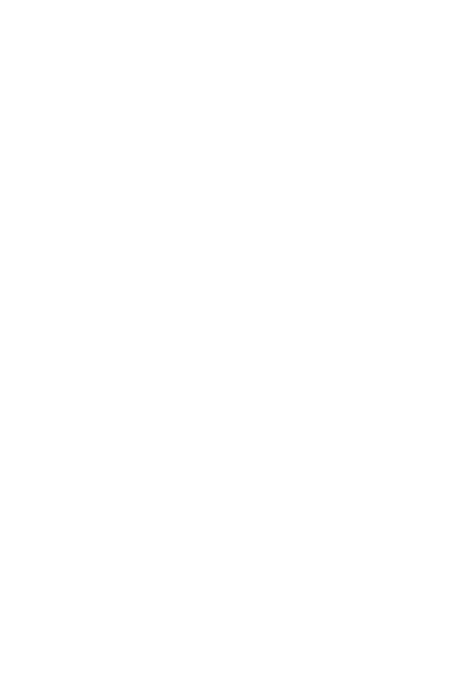
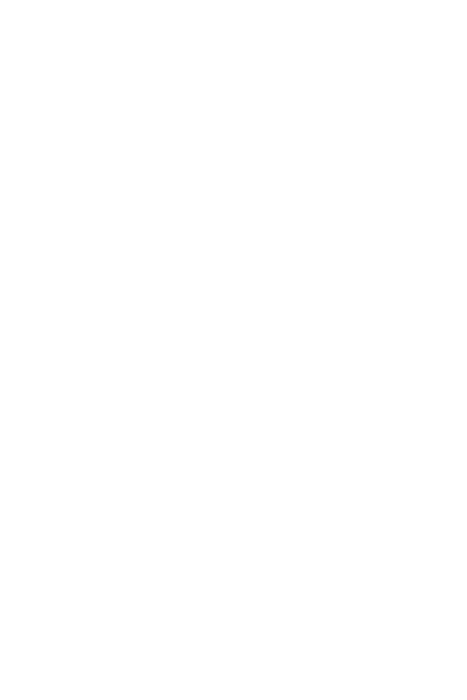
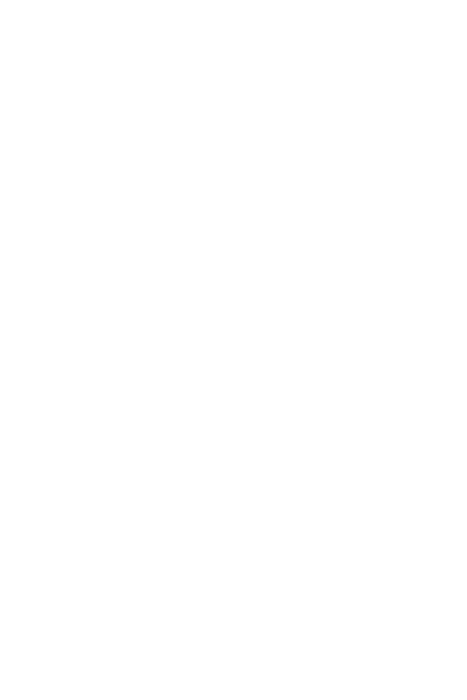
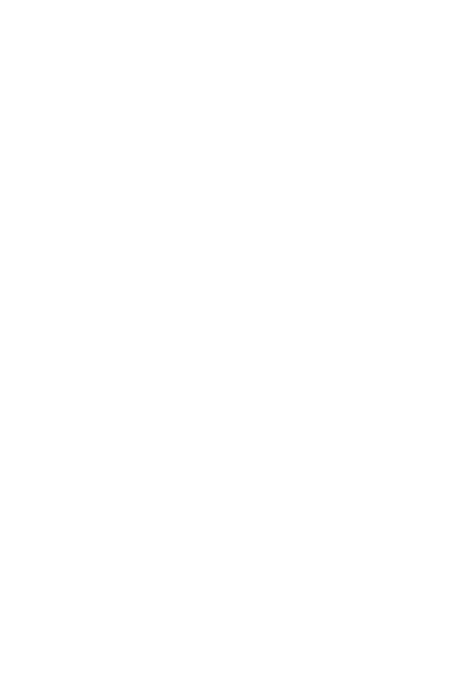
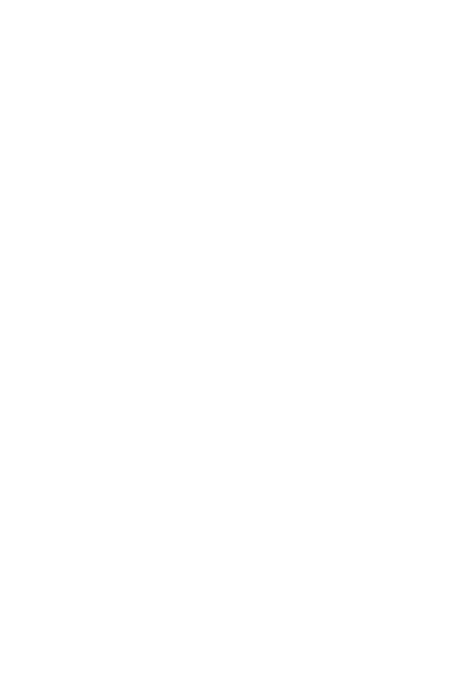
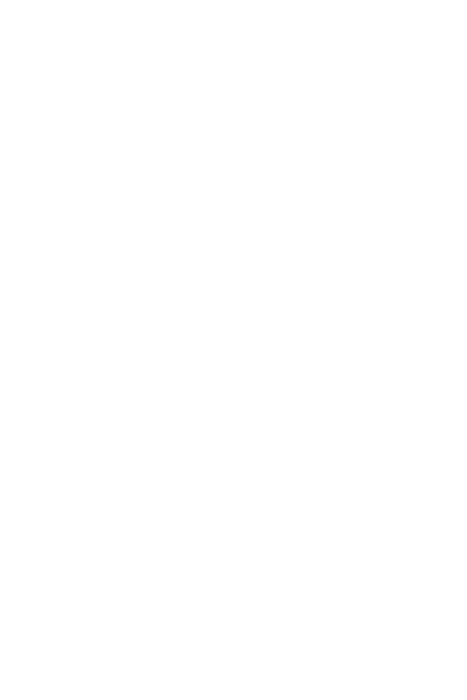
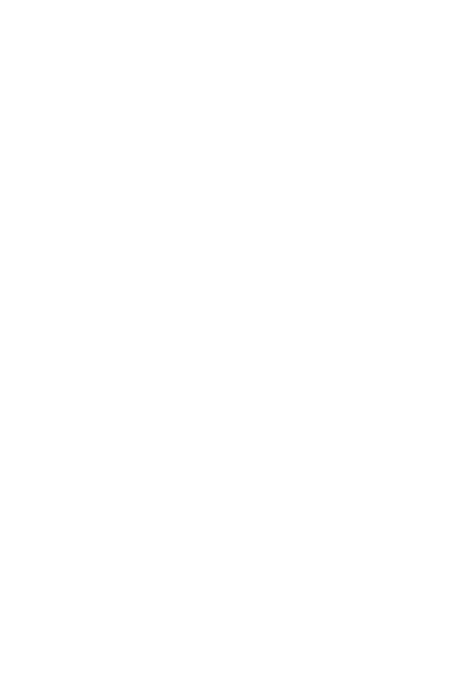
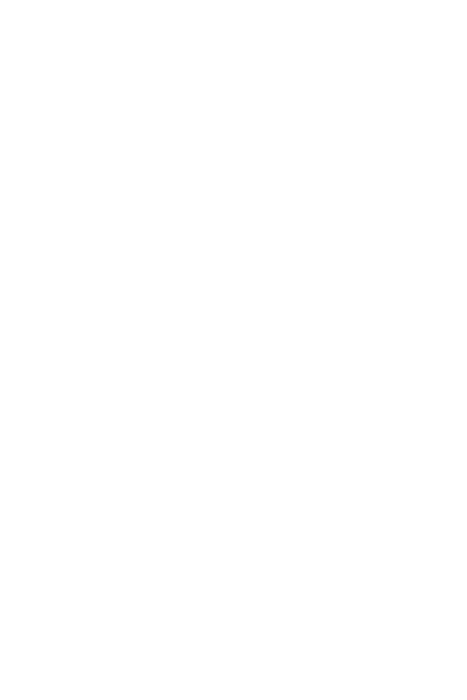
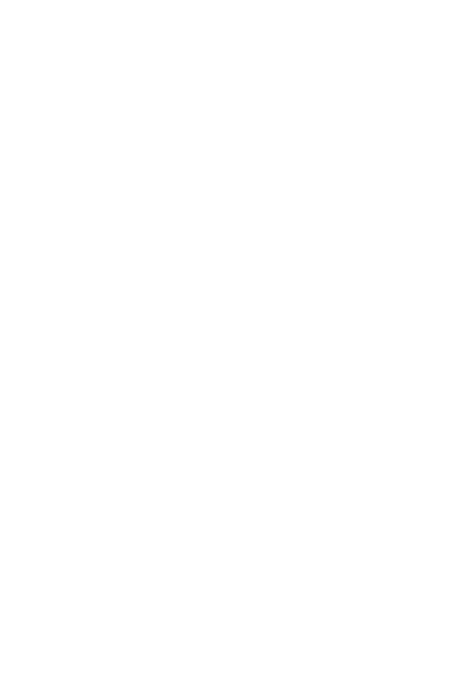

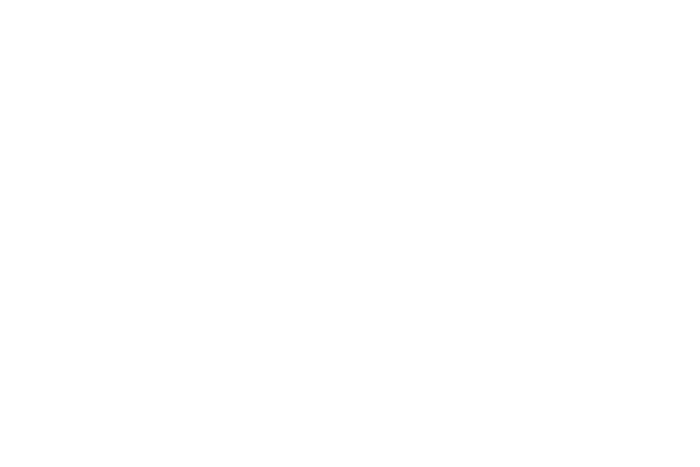
Контакты:
dbychihin@yandex.ru
@DenisTeacher